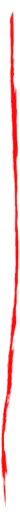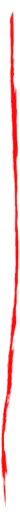
Вечность
Увертюра печалей раз два раз два
Красные флаги лягушки
Слюни цветов
Живописный восход электролиз
Деревни дымные шары
Комья земли песка рожок
Ты вздыхаешь измученное дитя
Неведомое сиреневое свет домов закрытых на замок
По краю ковра гнёзда мёртвых листьев
Переселение под струны деревенского Орфея
По праздникам на стены вывешивают бедняков игрушечные очи
Прощай болезней источник
Растворимы все крики и все кто остался
Красный порядок для взрослых
Дом солнце пляска в забвенье тумана вуали
Лето луна
Фонарь деревце серое с экзотическим именем
0133 это пальцы атаксиков виноградники просторы
Биология учит любви
Тките прозрачность истин
Повязка вокруг моей головы
Убийство или самоубийство
Ацетилен белая гвоздика
Лорнеты кошмара
Приказы
Лотерея восхождений и китайских астр
Разыгрывайте в карты тысячу слёз юности нежной своей
Звание влюблённых
Фронтовой мёд передвигать на заданной дистанции работать ночью
Боли улиц светлые дни засахаренные субботы
Металлические уста солнца закат
Сжатый воздух это стыд
Кто исполнит романс-ожог
Красивая кровь это роза
Отражений раскрытый веер
Цвет молока без угрозы
На западе дивном уснёт
О грациозные машины
Ужасные торговцы платьем
Даруют наших дум вершинам
Своей признательности дым
Вчитайтесь в эти пассажи
Взрываются наши вены ракеты красавицы ракеты
Наше чувство избранных нюансов корродирует от влажности
Воскресные досуги жёлтого цвета
Регистр пронумерованных страстей
Спички превосходны они расцветают по краю поля
ура мышиным мозжечкам
У башенного порога
Волны таинств и жестов
Божественный расчёт дворцов
Благодать всем членам
Роскошный ковёр трость со шпагой и слава изгнанников
Номера горизонтов алый язык склонений
Выше голову благородный или боец
Дни просачиваются сквозь пальцы
Маленькое пламя для слепорожденных
Демонстрация смеха школа-брюнетка на краю деревни синий дым шахтёров и
альпийских лесников
Магическая радуга пастухов
Свет изливается родником
Физика уже ничто
Нити проводов и телеграммы цветы наших розовых цивилизаций
Позаботьтесь о соседях что пахнут ночами и завтрашним днём
Коллеж окно занавешенное плющом
Верблюдов галоп
Затерянный порт
Вокзал направо кафе вокзала Бифюр Это страх
Океанские префектуры
Я прячусь в историческую живопись
Такую зелёную что вот-вот расцветёт
Листочки нежные вздохи
Поторопитесь срубить ваши желания три неуловимые мачты безумные танцоры
У моря больше нет цвета приходите посмотреть на море водорослей
Левкой карта мира или акула
Справа бедная жирафа
Стонет тюлень
В руках инспекторов темнота и зимородки животный графометр высохших городов
Для вас потерянные фраги штаб
Охладевающих вечностей
Маски и подкрашенная жара
Бутылки пыланий сладки так сладки
У пригородных пиратов чернота в глазах
Зелёная ясность поклонение пейзажам
Лакированные туфли
Промышленная компания без названия Химическая ассоциация маятников
Вялость безглазых грызунов
Булимия бледных наседок
Фиолетово наивные торговцы быстро закрывающимися и грубо выдолбленными
ставнями
Под взглядом адаптированных кислот маяки даруют мужество
Зелёная вода для дам
Позавчерашние газеты бабушки болтают вздор синее небо синее море синие глаза
Четвероногие музыкальные лучи сабля в апатии
Растерзанные осы немы это плаксивые пауки-птицееды
Сума подводных городов голуби сиянья изрезают стены и мозги
Будильник неизменно
Базилика испуганных секунд
Важность барометров плоских рыб
Василиск и резеда
Испанские танцы жестов скала потоков леса
Всё разрушает сфера
КОНЕЦ ВСЕГО
|
МАГНИТНЫЕ
ПОЛЯ
посвящаются
памяти
ЖАКА ВАШЕ
Андре Бретон
Непредвиденное обстоятельство, пустяк,
по поводу которого, полузакрыв глаза, мы не решаемся даже предположить,
будто наши прежние ссоры будут забыты, приводя в движение замечательные
steam-swing, возле которых нам не нужно было прежде назначать друг другу
свидания. Вот уже почти два года, как эти странные качели перестали
действовать, хотя до этого они уже разбросали нас в разные стороны; теперь
же мы с большим или меньшим изяществом пытаемся прийти в себя. Мне уже
приходилось говорить, что коль скоро мы,— без сомнения, ошибочно и
неосновательно — отвергаем всякую ответственность за этот несчастный случай,
по крайней мере, ни один из нас не жалел о том, что проехался в этом
вагончике, слабо освещённом голыми коленями девушек, в вагончике, ритмично
двигающемся между домами.
Не подлежит сомнению, что мы снова оказались здесь: с одной стороны
Кревель, Деснос и Пере, с другой — Элюар, Эрнст, Мориз, Пикабиа и я. Сейчас
мы увидим, в чём разнятся наши позиции. Пока что (без всякой задней мысли)
добавлю, что существует трое людей, чьё присутствие рядом с нами кажется мне
совершенно необходимым, трое людей, которые вели себя весьма трогательным
образом при предыдущем разделе и которые в силу печального
обстоятельства — их отсутствия в Париже — не подозревают об этих
подготовительных действиях. Это Арагон, Супо, Тцара. Пусть же они позволят
мне причислить их к нашему предприятию; пусть это сделают и все те, кто не
разочаровался в нас, все те, кто помнит о своём участии в первоначальном
движении, кто в отличие от нас самих никогда не верил в милосердие этих
воплощений.
Необычный угол зрения, под которым предстают те факты, о которых я
собираюсь поведать, снова и снова требует осмотрительности. Уже долгое время
само слово "литература", которое не раз выносилось в заглавие таких записок,
кажется всего лишь этикеткой, обозначающей чистую фантазию. Тем не менее
именно благодаря этому слову нам так много прощали. Если коснуться ещё
несоблюдения литературного ритуала, то можно заметить, что отдельные тонкие
умы отдавали этому ритуалу должное, и похоже, что искусство от этого не
пострадало. Однако многие лишь пожмут плечами, узнав, что мы согласились
склониться перед совершенно бессмысленной формальностью (позднее будет
сказано, перед какой именно); легко увидеть, что соблюдение этой
формальности позволит кому угодно контролировать полученные нами результаты.
Я вполне уверен, что, прочитав эти записки, многие с облегчением решат, что
"поэзия" тут ничего не теряет: её положение не пострадало.
Всем уже до некоторой степени известно, что я и мои друзья
подразумеваем под сюрреализмом. Это слово, которое не нами выдумано и
которое мы вполне могли бы оставить туманному словарю критиков,
употребляется нами в точном и ясном смысле. Мы уговорились обозначать этим
термином некий психический автоматизм, который так хорошо согласуется с
состоянием сновидения, — состоянием, которое сегодня весьма трудно ввести в
жёсткие рамки. Прошу прощения за приводимый мною пример из личной жизни.
В 1919 году моё внимание было сосредоточено на тех более или менее
отрывочных фразах, которые приходят на ум, когда ты в совершенном
одиночестве ждёшь приближения сна: они становятся ощутимыми для духа, хотя
тот и не способен обнаружить, чем они предопределяются. Фразы эти, полные
замечательных образов и отличающиеся абсолютно правильным синтаксисом,
казались мне первоклассными поэтическими элементами. Вначале я ограничивался
тем, что записывал их. Только позднее мы вместе с Супо задумались над тем,
чтобы намеренно воспроизводить внутри себя то состояние, в котором они
рождаются. Для этого достаточно было абстрагироваться от внешнего мира, и
после того как мы этого добились, фразы начали приходить к нам одна за
другой на протяжении двух месяцев, всё в большем и большем количестве, часто
следуя друг за другом без перерыва и с такой быстротой, что нам пришлось
прибегать к сокращениям, чтобы успевать всё записывать. "Магнитные поля
" — это всего лишь первое приложение подобного открытия: у каждой из глав не
было иной причины завершаться, помимо того, что кончался день, в который она
была начата, а при переходе от одной главы к другой одно лишь изменение
скорости записей порождало совершенно разнородные эффекты. То, что я говорю
об этом — без боязни насмешки или саморекламы — сводится прежде всего к
утверждению: поскольку с нашей стороны тут отсутствует всякая критическая
оценка происходящего, любые суждения и приговоры, выносимые по поводу
публикации этой книги, заведомо являются ложными. Злонамеренно
склоняя свой слух к восприятию иного голоса, помимо голоса нашего
бессознательного, мы ведь рискуем тем, что этот шёпот, самодостаточный и
единый, окажется скомпрометированным в самой своей сущности. И я думаю, что
именно так и случилось. А потому, коль скоро мы оказались глухи к шёпоту
из-за каких-то забот о конечных целях, ему более не увести нас далеко. И
однако же этот шёпот был такого свойства, что я не жду иных откровений. Я
никогда не переставал верить: всё, что говорится или делается, не имеет
смысла вне следования этой волшебной диктовке. В этом и состоит тайна
неотразимой привлекательности некоторых существ, единственный интерес
которых заключается в том, что в один прекрасный день они превратились в эхо
того, что так соблазнительно счесть "универсальным сознанием", — или же,
если угодно, в том, что они подхватили (пусть даже и не проникнув в их
смысл) несколько слов, оброненных "устами темноты".
Время от времени, правда, я возвращаюсь к иной точке зрения; это
происходит оттого, что согласно моему мнению все усилия человека должны
прилагаться к тому, чтобы беспрестанно провоцировать драгоценное доверие. Во
всяком случае, мы можем держаться немного впереди него без страха
заблудиться. И поистине безумен тот, кто, приблизившись однажды к этим
поверяемым тайнам, полагает, будто уже сумел удержать их. Они достаются
несколько раз кряду лишь тем, кто предаётся самой сложной умственной
гимнастике. Сейчас это Пикабиа, Дюшан. Всякий раз, когда возникает эта
доверительность (а это почти всегда происходит самым неожиданным образом),
речь идёт о том, чтобы научиться держаться за неё без надежды на
возвращение, придавая лишь относительную значимость тому способу появления
среди нас, который она сама выбрала.
В последнее время, если вернуться к "сюрреализму", мне стало казаться,
что, вводя в эту область сознательные элементы, помещая их под власть
человеческой воли, воли литературной и чётко определённой, мы тем самым
используем их всё менее плодотворно. Мне это совершенно не интересно. Внутри
того же самого порядка идей я когда-то отдавал все свои предпочтения
записям снов, причём, чтобы избавить их от всякого подобия стилизации, я
старался эти записи стенографировать. Беда состояла в том, что такой новый
опыт требовал помощи и поддержки памяти, последняя же всегда остаётся
глубоко обманчивой и в целом требующей большой осторожности. Казалось, что к
решению этой проблемы невозможно продвинуться, в частности потому, что тут
недостаёт многих конкретных документов. Вот почему я не ждал здесь ничего
особенно нового; но в этот самый момент мне открылось третье возможное
решение проблемы (думаю, его осталось лишь надлежащим образом расшифровать).
Это решение подвержено воздействию лишь бесконечно малого числа ошибочных
факторов, а потому оно поистине относится к наиболее вдохновляющим находкам.
Об этом можно судить хотя бы по тому, что по прошествии десяти дней даже
самые пресыщенные, самые уверенные среди нас были совершенно поражены и
буквально дрожали от благодарности и страха, они, так сказать, совершенно
растерялись перед чудом.
Недели две назад, после возвращения из отпуска, Рене Кревель сообщил нам о начале "спиритической" инициации, которую проводила госпожа Д. Эта дама, обнаружив в нём некие медиумические качества, обучила его определённому способу их развития. Кревель сказал нам, что в надлежащих условиях, необходимых для порождения подобных феноменов (темнота и молчание в помещении, замкнутая "цепь" рук по окружности стола), ему часто случалось впадать в глубокий сон, произнося вместе с тем отдельные слова, которые самоорганизовывались в более или менее связную речь, каковая заканчивалась произвольно, одновременно со специальными пассами, рассчитанными на пробуждение. Само собой разумеется, что с того самого дня, когда мы согласились подвергнуться этим опытам, мы ни разу ни на мгновение не присоединились к спиритической точке зрения. Что же касается меня, то я формально отказываюсь признавать, что между живыми и мёртвыми существует хоть какая-либо возможность коммуникации.
В понедельник 25 сентября, в 9 часов
вечера, в присутствии Десноса, Мориза и меня самого, Кревель погрузился в
гипнотический сон и произнёс некую жалобу или монолог, который не был
записан (декламационное произношение, прерываемое вздохами, порою почти
переходящее в пение; настойчивое повторение отдельных слов, быстрое
проскакивание других; бесконечное растягивание некоторых финалов,
драматическая развязка. Говорилось о женщине, обвиняемой в убийстве мужа; её
виновность оспаривается, поскольку она действовала по его собственной
просьбе). После пробуждения у Кревеля не остаётся никакого воспоминания об
этом рассказе. Его исключают из следующего опыта, который проводится в его
присутствии в тех же самых условиях. По истечении четверти часа Деснос,
который полагал крайне неприличным давать волю подобным проявлениям (а это
его мнение лишь укрепилось после неудачи, которая постигла в моём
присутствии гг. Донато и Беневоля, пытавшихся загипнотизировать его за
несколько дней до того), вдруг опускает голову на руки и начинает
конвульсивно скрести ногтями стол. Через несколько мгновений он пробуждается
сам, причём он убеждён, что с ним ничего не происходило. Чтобы разуверить
его, мы по отдельности пишем ему, что же произошло.
После того, как Кревель сказал нам, что попытка скрести ногтями стол
означает желание писать, мы договариваемся, что в следующий раз надо будет
вложить в руку Десноса карандаш и поместить перед ним листок бумаги. Вот
почему через день, в аналогичных обстоятельствах, мы видим, как он пишет, не
поворачивая головы: "14 июля — 14 июля", после чего следуют крестики
или знаки плюс. После этого мы, чередуясь, задаём ему вопросы.
Вопрос: Что вы видите?
Ответ: Смерть. (Он рисует женщину, повешенную у дороги. Пишет.)
"Вдоль папортника идут двое" (Остальное погибло на столе.)
В это мгновение я кладу свою руку
поверх его руки.
Вопрос: Деснос, это Бретон. Скажи, что ты видишь для него?
Ответ: Экватор (Рисует круг и горизонтальный диаметр).
Вопрос: Это путешествие, в которое отправится Бретон?
Ответ: Да.
Вопрос: Это будет деловая поездка?
Ответ: (Делает знак рукой.) "Нет". (Пишет.) Назимова.
Вопрос: Эта женщина будет сопровождать его в поездке?
Ответ: ????
Вопрос: Он снова отыщет Назимову?
Ответ: Нет.
Вопрос: Он будет с Назимовой?
Ответ: ?
Вопрос: Что ещё ты знаешь о Бретоне? Скажи.
Ответ: Корабль и снег. Есть ещё красивая телеграфная башня, на
красивой башне стоит молодая (неразборчиво).
Я убираю свою руку. Элюар кладёт свою
руку на руку Десноса.
Вопрос: Это Элюар?
Ответ: Да (рисунок).
Вопрос: Что ты знаешь о нём?
Ответ: Кирико.
Вопрос: Он вскоре встретится с Кирико?
Ответ: Чудо с влажными глазами, как дитя.
Вопрос: Что ты видишь в связи с Элюаром?
Ответ: Он синий.
Вопрос: Почему он синий?
Ответ: Потому что небо прячется в (незаконченное, неразборчивое
слово, вся фраза яростно перечёркивается).
Рука Пере заменяет руку Элюара.
Вопрос: Что ты знаешь о Пере?
Ответ: Он умрёт в вагоне, полном людей.
Вопрос: Его убьют?
Ответ: Да.
Вопрос: Кто?
Ответ: (Он рисует поезд, человека, который выпадает из дверей.)
Животное.
Вопрос: Какое животное?
Ответ: Голубая ленточка, моя милая бродяжка. (Долгое молчание, а
затем). Не говорите о ней, она родится на свет через
несколько минут.
Рука Эрнста заменяет руку Пере.
Вопрос: Это Эрнст дотронулся до твоей руки. Ты его знаешь?
Ответ: Кого?
Вопрос: Макса Эрнста.
Ответ: Да.
Вопрос: Долго он проживет?
Ответ: 51 год.
Вопрос: Что он будет делать?
Ответ: Он будет играть с безумцами.
Вопрос: Будет ли он счастлив с этими безумцами?
Ответ: Спросите у этой голубой женщины.
Вопрос: Кто эта голубая женщина?
Ответ: О н а.
Вопрос: Как — это? Она?
Ответ: Башня.
Деснос просыпается. Внезапное пробуждение, предваряемое яростными жестами.
Следует отметить, что в тот же самый
день, ещё до Десноса, Кревель проходил через состояние, подобное тому,
которое он испытывал в понедельник (новая криминальная история, ещё более
туманная: "Женщина будет нагой, и самый старый мужчина занесёт над ней
топор").
Во время третьего опыта, в котором приняли участие Элюар, Эрнст, Мориз,
Пере, молодая девушка м-ль Рене, сопровождавшая Пере, и я сам, первой
погрузилась в сон м-ль Рене. Она тотчас же оказывается во власти крайнего
возбуждения, выкрикивая лихорадочные фразы. Она отвечает на вопросы:
"Пучина... бесцветный пот моего отца заливает меня с головой".
(Повторения, признаки испуга).
Последняя попытка, сделанная нами через несколько минут, приводит к
внезапным и весьма продолжительным взрывам смеха у Пере. Спит ли он? Нам с
трудом удаётся вырвать у него несколько слов.
— Что вы видите?
— Воду.
— Какого цвета эта вода?
Тот же ответ. Ощущение внутренней
убеждённости.
Внезапно и без всякого приглашения он поднимается, ложится животом на
стол и подражает движениям пловца.
Я считаю излишним настаивать далее на определённом характере каждого
феномена, равно как и на обстоятельствах, в которых, как мы видели, они
порождались. Элюар, Эрнст, Мориз и я сам, несмотря на всю нашу добрую волю и
готовность участвовать, так и не погрузились в подобный сон.
Бенжамен Пере
Однажды ранним утром, выйдя, как обычно,
из дому, мадам Ланнор обнаружила, что за ночь кто-то заменил вишнёвые
деревья, ещё вчера покрытые восхитительными красными плодами, на
натурализованных жирафов. Глупая шутка! Но почему мадам Ланнор решила, что
виновата влюблённая парочка, сидевшая накануне вечером под деревом? В память
о любви, они вырезали на коре свои сплетённые инициалы. У мадам Ланнор был в
руках молочный поросёнок; возмутившись наглым поведением возлюбленных, она
метнула в них поросёнком и заорала:
— Что вы там делаете, порождения артишоков! Может, вы ещё бегонии
хотите?
К её великому удивлению, возлюбленные вдруг заскользили вдоль вишнёвого
ствола, какой-то механизм тянул их вверх. Достигнув вершины, они полетели,
как ласточки, потом стали планировать, описывая расширяющиеся круги, и упали
в соседний пруд. Вскоре возник ужасный шум, сравнимый с одновременным
звучанием 3000 тромбонов, корнет-а-пистонов, саксофонов, больших барабанов,
горнов и др. Мадам Ланнор была, естественно, ошеломлена, но, не желая это
показать, она изрекла:
— Я уже давно занимаюсь изготовлением карманных зеркал.
И перестала думать об этом происшествии. Но сегодня утром при виде
натурализованных жирафов на месте вишнёвых деревьев она, не сомневаясь,
провела параллель между событиями, происшедшими накануне и сегодня.
Для очистки совести мадам Ланнор решила отправиться на пруд, где
исчезли возлюбленные. Пруд был пуст, и в устилавшей дно — уже сухой — тине
она обнаружила сотню распластанных трупов уистити, державших в лапах
охотничьи рожки. Посреди озера возвышался обелиск более тридцати метров
высотой, на который была надета мушкетёрская шляпа. У подножия монумента
сидели давешние возлюбленные, взявшись за руки. Он склонял к ней голову и
говорил: "Гертруда!", и она, в такой же позе, отвечала "Франсуа!". И так до
бесконечности.
При этом зрелище мадам Ланнор уже не сомневалась, что перед ней
виновники происшествия. Она обрадовалась, что так быстро и правильно
угадала. Она радовалась слишком рано, потому что один из уистити
распрямился, сел и прокричал ей с чистым провансальским акцентом: "Брось в
него камень первой". Прекрасная идея. Мадам Ланнор взяла огромный камень и
бросила его в сторону возлюбленных, но, оказавшись в метре от головы
Франсуа, камень остановился, между камнем и головой Франсуа проскочила
искра, в тот же миг раздался потрясающий звук разбивающегося стекла. Едва
шум затих, как из пьедестала вышли несколько обнажённых девушек, держащихся
за руки и связанных стеблем вьюна, который был намотан на их тела, как
снаряжение альпиниста. Они принялись танцевать вокруг обелиска, распевая
гимн "Брабансон". Обезьяны одна за одной вставали, чтобы принять участие в
танце: одни пели, другие аккомпанировали им на охотничьем рожке. Мадам
Ланнор чувствовала, что её тело становится очень лёгким и начинает
отплясывать со всеми. Если бы бедная мадам Ланнор, вместо того чтобы
танцевать, посмотрела, что происходит на вершине обелиска, она бы, наверное,
умерла от ужаса.
Обелиск раскрылся, как ножницы. Между раздвинутыми ножками поднималась
малюсенькая колонна дыма, переливающаяся всеми цветами радуги. Под колонной
дыма летал велосипед, на котором пара, напоминающая Гертруду и Франсуа,
занималась любовью. В тот самый момент, когда дым стал закручиваться в
спираль, переднее колесо велосипеда отделилось от корпуса, медленно
спустилось вдоль одной из сторон обелиска и деликатно село на голову одной
из девушек. Реакция была моментальной. Всех девушек внезапно охватил огонь,
и на их месте в течение нескольких секунд горело голубое пламя несколько
сантиметров высотой, потом девушек заменило вишнёвое дерево: одна его
половина была в цвету, в то время как другая — усыпана спелыми плодами.
Мадам Ланнор так смутилась, что позабыла о своём преклонном возрасте,
она была так потрясена, что забыла о скором прибытии своего племянника,
который так кстати заменял пуховичок:
— Мои вишни! — восклицала она. — Так вот они!
Она побежала к обелиску, у подножия которого Франсуа и Гертруда
по-прежнему стояли на коленях и повторяли без устали свои имена. Она
пересекла линию вишнёвых деревьев, опоясывающую обелиск, и вдруг с
изумлением увидела, как два растения стали сближаться, преграждая ей дорогу.
Она хотела их обойти, но едва она заходила вправо, как перед ней вставало
новое дерево, и то же самое происходило слева. Она хотела бежать — вишнёвые
деревья погнались за ней. Ей оставалось только полететь. Что она и сделала.
Увы! Вишни последовали её примеру. Эта игра в догонялки могла длиться ещё
очень долго, если бы внезапно мадам Ланнор не осенило:
— Выкопаю подземный ход до обелиска.
Вскоре она приземлилась и ринулась к себе домой за киркой и лопатой.
Через мгновение она была уже за работой. Вишнёвые деревья, демонстрируя, что
этот пыл их не впечатляет, ежеминутно бросали ей на голову по гнилой вишне.
Мадам Ланнор чертыхалась и работала с возрастающей яростью. Наконец дыра
стала достаточно большой, чтобы мадам Ланнор могла опуститься в неё с
головой. Удовлетворённая проделанной работой, она решила чуть-чуть
передохнуть и растянулась на траве, повернув лицо к солнцу. Только она
разлеглась, как заметила странное облако, имевшее форму сосиски, по краям
которой торчали гигантские уши — они медленно колыхались, точно веер.
— Этого ещё не хватало, — заворчала мадам Ланнор.
Она решилась снова взяться за работу, но вдруг увидела, что сосиска
раскалывается по долготе и из неё выпадает нечто: то была огромная вишня, в
десять раз толще тыквы, она упала на обелиск и там застряла. Мадам Ланнор
усмотрела в этом вызов и встала во весь рост:
— Эй! Бандиты! Вы ещё получите!
Схватив лопату, она начала размахивать ею над головой, но застыла в
этой позе. Она увидела, что в выкопанной дыре находились 7 или 8 челюстей,
которые регулярно открывались и закрывались. Впрочем, мадам Ланнор этим не
испугать. Она вырвала из земли морковку и бросила её в одну из челюстей, в
результате чего из всех челюстей вырвался тонкий жёлтый дымок,
распространявший тошнотворный запах ладана. Все челюсти исчезли, и, когда
дым развеялся, мадам Ланнор увидела на дне ямы девочку, которая держала
между ногами головку лука-порея. Лук прорастал прямо на глазах, этот
безудержный рост явно смущал девочку; постепенно живот, потом сердце и
печень вышли из её тела и стали удаляться медленным шагом, будто сожалея о
чём-то, в то время как девочка обнаружила, что её спина покрылась чешуёй.
— Но ведь я же не сирена, — пробормотала она.
Когда ей захотелось избавиться от луковицы, она с ужасом поняла, что та
стала частью её тела. После долгих и болезненных усилий ей, впрочем, удалось
её вырвать, но из-под лука выросла луковица ириса, который тут же зацвёл.
Когда бутон раскрылся, девочка почувствовала боли роженицы и её вырвало
книгой Часослова, самостоятельно открывшейся на странице, где говорилось о
призвании Жанны Д'Арк. Девочка увидела в этом небесное знамение и тут же
дала обет постричься в монахини. Она встала и вышла из ямы, не обращая
больше внимания на мадам Ланнор, у той, в свою очередь, начались родовые
схватки, в результате чего она породила на свет забавные часы в стиле
Людовика XV, которые беспрерывно звонили. На этот раз мадам Ланнор
почувствовала неуверенность. Потом наступила безмерная тоска и она ощутила,
как невидимые руки надевают на неё высокие резиновые сапоги; вскоре они
доверху наполнились потом. Мадам Ланнор упала в обморок.
Она пришла в себя, услышав рядом бушующее море. Она открыла глаза и
обнаружила себя в огромной металлической коробке с дырками, просверленными
со всех сторон. Её окружала многочисленная компания сардин, которые, когда
она села, встали на хвосты и очень вежливо сказали ей: "Добро пожаловать";
потом все исчезли в одном и том же направлении, словно их засосал гигантский
насос. Мадам Ланнор смочила палец слюной и подняла его над головой, чтобы
определить направление ветра.
— Востоко-северо-восток, — сказала летающая рыба, которая незаметно
приблизилась к ней. Мадам Ланнор посчитала своим долгом раздеться, однако ей
не следовало снимать сапог, ибо едва она приняла это решение, как
человеческий позвоночный столб спустился с потолка, осыпая её упрёками и
оскорблениями за такое поведение. Осознавая недостойность своего поступка,
мадам Ланнор молчала. Позвоночный столб покрылся розовыми фосфоресценциями и
исчез в оглушительном грохоте захлопывающейся двери.
Мадам Ланнор была в отчаянии, ибо поняла, что больше никогда не увидит
свои вишни, и скрепя сердце решила вернуться к себе, но внезапно она ощутила
острую боль в ступнях.
— Ничего страшного, — сказали ей остальные члены, — это весна.
Ступни мадам Ланнор покрылись вишнёвыми листьями, и через несколько
секунд возникли цветы. Из каждого цветка выпадало по спичке, которая
загоралась при соприкосновении с землёй. Цветы исчезли, вскоре на их месте
выросли вишнёвые плоды. Пронёсся ветер, вишни наполнились серными парами,
они утратили цвет, обнажилось ядро. Едва мадам Ланнор успела вытянуть руки,
как косточки стали кустами. Мадам Ланнор увидела вспышку, вслед за которой
последовал ужасающий раскат грома. Открыв глаза, она обнаружила себя
подвешенной за ноги на вершине обелиска на площади Согласия, а вокруг её
головы плавало множество вишен, которые взрывались, как грибы-дождевики.
Тогда мадам Ланнор поняла, что пришёл её последний час, и она умерла, как
умирают грибы.
Роже Витрак
Если бы в каждый миг своей жизни я
считал необходимым останавливаться или пропадать в небытие, я бы упрекал
себя за то, что помечал каждое событие некоей идеей. Я останавливаюсь только
для сна. Впрочем, я не выбираю себе предлогов специально. Одного образа,
слова, даже просто жеста мне порой достаточно, чтобы заполнить целый месяц
жизни. Я начинаю кружиться вокруг какого-нибудь одного знака — этим я не
очень-то отличаюсь от других. Всё заканчивается исповедью или прохладной
ванной, откуда я выхожу, если не блестящ, то, по меньшей мере, отмыт добела
и готов к новым упражнениям.
Я не верю в чудеса. Но я верил и верю в те большие комнаты с тысячью
дверей; здесь может проходить кто угодно, каждый может остановиться, чтобы
поздороваться, поесть, испражниться или произнести слово, которое будет
написано у него на лбу на всю оставшуюся жизнь.
Идеи кажутся мне действительно свободными только потому, что некоторые
лица умеют отделять их одну от другой. Этой ставшей привычной для меня
гимнастике я обязан недоверием к гимнастике вообще. Я убеждён, что нет слов,
поз, элементов, которые, будучи подобающе проиллюстрированы, не создали бы
систему, столь удивительную и столь же чудесную, как те, что мы привыкли
преодолевать и разрушать. Одеваемся ли мы в цифры, конструируем ли фразы с
помощью геометрических объёмов, ощущаем ли некое сверхчувственное
возбуждение от света, создаём ли из обрывков целую химию образов, разрешаем
ли иначе, чем посредством выражения, жизненные проблемы: например, стать из
одного человека тысячью индивидов, именно индивидов, а не массовой
распечаткой в умах горожан; потом в хорошо рассчитанный момент незаметно
убить себя; по возможности предвидеть фактор воскрешения, довести до
крайности способность забвения вплоть до того, что и вовсе потерять нить,
какой бы тонкой она ни оставалась, между этими двумя состояниями; смешать,
взяв смелее в качестве аксиомы так называемые установленные законы, чтобы
наконец прийти к юмористической науке, изложение которой в семи томах
содержало бы предложения, в которых логика и опыт уступали бы её всеобщей
механике благодаря тому, что одни правила игры заменялись бы на другие, где
лошадь, башня, дама, пиковый король, цифра 9 стали бы, например, знаком
креста, словом "да", абсолютными правилами поэзии, новой болезнью,
неоспоримой истиной и т. д., мы бы превратились от этого в новых дураков,
рискуя поздравить себя с тем, что мы остались такими же прозрачными, как
стекло, предаваясь всецело развлечению и "шутке".
P. S. Терпение, однако. В стране французского Языка существует немало растущих слов. В наш век, когда словарь можно положить в карман, единственное слово покрывает всё небо — это прекрасное рабство, с которым я себя поздравляю.
Робер Деснос
Легенда о маркизе де Саде — одна из
самых патетических. Мы не будем пытаться опровергнуть её. Мы только оставим
за собой право интерпретировать её, не прибегая к утилитарным догмам,
которые в конце концов услужливо вынесли нашему герою приговор. У этого
имени, влияние которого огромно, а произведения неизвестны, есть любопытный
омоним. Известно, в каком смысле Вийон использует слово "sadinet" (см.
"Жалобы Прекрасной Оружейницы") и какое нежное значение имеет слово "sade".
Во времена маркиза, однако, это значение исчезло из общеупотребительного
лексикона, оно использовалось лишь некоторыми поэтами (Аполлинер "Каллиграммы").
Отныне это имя обозначает исключительно чудесного автора "Жюстины" и те
Формы любви, которые он взял на себя труд описывать. Как это нередко
случается с создателями религий, имя оказалось самодостаточным, оно обобщило
в своём единственном звучном слоге целую доктрину, которая требует некоторой
открытости духа, чтобы его ассимилировали открыто, прямо с листа. Мы не
ставим целью воссоздавать библиографию маркиза, которая полностью
воспроизводится в трудах доктора Дюрена и многих авторов, которые посчитали
нужным восстановить его настоящую физиономию, замаскированную глупостями
Жюля Жанена и его компиляторами. Кстати, любопытно, что из романтиков только
Петрюс Борель, кажется, восхищался им. Достаточно прочитать на эту тему
какие-нибудь двадцать строк, которые были посвящены ему в "Мадам Пютифар".
(Переписка Флобера также содержит много хвалебных пассажей по его поводу.)
И всё же кажется, что романтики, настолько обеспокоенные поисками своих
предшественников, что дошли до восхваления Андре Шенье, могли бы вспомнить
об идеях маркиза де Сада.
Ибо на самом деле творчество маркиза де Сада — это первая философская и
образная манифестация современного духа.
Все наши теперешние надежды были, в сущности, уже сформулированы Садом,
когда он впервые со всей полнотой показал сексуальную жизнь в качестве
основания чувственной и интеллектуальной жизни. Любовь, которая потрясает
нас сегодня и которую мы защищаем как первопричину наших поступков, — это та
любовь, что была описана, начиная с первой "Жюстины" Д.-А.-Ф. де Сада.
Романы де Сада вместе с "Опасными связями", "Монахиней" Дидро и "Письмами
португальской монахини", с одной стороны, и "Исповедью" Жан-Жака Руссо, — с
другой, составляют точку отсчёта всех любовных произведений ("Адольф", "Оберманн"
и т. д. вплоть до Барреса). Это влияние не сводится только к духу, но
относится также и к форме. Ничто так не актуально, как проза де Сада; его
концепция романа — это концепция XIX века, и, наконец, его теории,
относящиеся к жизни, — это те идеи, которые молодые люди 1830 года применяли
со всем неистовством, не без литературы, разумеется.
С точки зрения эротической творчество де Сада — это творчество в высшей
степени интеллектуальное. Какими бы ни были причины его возникновения —
эротомания или материальная невозможность активной жизни (тюрьма) — оно
представляет собой создание абсолютно нового мира. Страна, в которой
действуют персонажи, — это страна, где он сам желал бы жить, и он
рассказывает перипетии своих героинь как актёр-участник. Любовь
воспринимается им серьезно, так же, как и разврат, и преступление. Этот
трагический юмор, определение которого ещё предстоит сформулировать, обрёл в
нём своего первого представителя. Его тон никогда не порывает с величием, с
той значительностью, которая могла бы принадлежать Боссюэ — самому
волнующему из моралистов, если бы его волновало что-нибудь иное, кроме общих
мест, мелких людей и мелких действий.
Де Сад — моралист, он моралист более чем кто-либо другой. Все его герои
одержимы желанием согласовать свою внешнюю жизнь и жизнь внутреннюю, все они
не что иное, как идеи, сосредоточенные на любви и сцеплении фактов.
Добродетель, вовсе не смехотворная под его пером, кажется такой же
восхитительной, как преступление, но не более, не менее. Добродетель и
преступление — концепции одновременные и вне всякой догмы. Герои уходят с
нашей грешной земли к идеалу и вовсе не довольствуются "deus ex machina". И
оттого, что они декламируют с большим достоинством и "смыслом", чем герои
Корнеля, они нас трогают ещё сильнее. Тот факт, что Сад скрестил две теории,
не подлежит сомнению, но никогда, при всей оскорбительной внешности, ни один
персонаж не производит на нас удручающего впечатления.
В то время как все его предшественники в эротической литературе
смотрели на "предмет" с насмешливой улыбкой, с отчаянным скептицизмом или с
отвратительной грубостью, Сад рассматривает любовь и её акты с точки зрения
бесконечного; в его произведении нет никакой улыбки, его подчас трагическая
язвительность напоминает трагический смех "проклятых" романтиков; величайшая
вера в преступление или добродетель одушевляет его героев наподобие Родена,
Жюстины, Жюльетты. Слово "либертен" под его пером взято в своём чистом
смысле свободы духа, и ни в один из эпизодов своих книг Сад не вводит того
ужасного сомнения, которым его современники украшают свои пресные продукции.
Что касается грубости, то нет ничего более чуждого его темпераменту. Он
называет всё своими именами, а врождённый аристократизм придаёт престижное
украшение его письму. Он не знает никакого ограничения в описании
сладострастия. Нет ни одного извращения, которое могло бы ускользнуть от его
точного анализа, в котором к тому же не найдёшь ни одной вульгарной или
неуместной строки.
Оккультное влияние Д.-А.-Ф. де Сада продолжается уже сто пятьдесят лет.
Кажется, что отныне оно из тайного станет более явным. За это мы благодарим
Гийома Аполлинера, с удовольствием обнаружившего в божественном маркизе тот
модернизм, что двигал самим Аполлинером всю его жизнь. Ему нравилось видеть
в Жюстине образ женщины прошлого, а в Жюльетте — современную женщину,
которой он столько принёс в жертву, что кажется, всё его творчество
посвящено исключительно ей.
Теперь пусть невежды свистят в своё удовольствие, Садом будут
восхищаться во все времена все те, кто способен наслаждаться прекрасными
примерами моральных законов и свободой духа. Жизнь Сада и его творчество
открывают, каким из этих дорогих принципов мы должны принести себя в жертву.
Именно по этим причинам Сад принадлежит не литературе, но истории нравов; и
его место, скорее, в ряду основателей религий, а не на более низкой ступени
— романистов и школяров.
Робер Деснос
Гийом Аполлинер любил окружать себя
причудливыми безделками: двурогие флаконы, старые ступки и т. д. Применение,
которое он им находил, было прелюбопытно.
Однажды вечером Пикабиа зашёл к нему, чтобы отвести его к одному
меценату, который очень желал видеть у себя поэта "Алкоголей".
Аполлинер оказался в состоянии надеть по этому случаю смокинг —
обязательную униформу светских вечеров. Но он никак не мог найти чёрного
галстука, который должен был подчеркнуть его элегантность. Напрасно были
обследованы буфеты, шкафы, книжные полки, сундуки. В конце концов, когда с
приближением назначенного часа Аполлинер готов был рвать на себе волосы,
вдруг желанный объект был обнаружен, в кухне на дне бокала, наполненного
водой. Однако горлышко бокала было такое узкое, что все усилия выудить
галстук были напрасны. "Разбей бокал", — сказал Пикабиа. "Пойми, — отвечает
Аполлинер, — это очень ценный бокал".
И в отчаянии он надевает красный галстук. Бесполезно говорить, что все
нашли это новшество очаровательным.
"Ох уж эти поэты", — говорили дамы.
Можно поспорить, что он, со свойственным ему остроумием, рассуждал о
Теофиле Готье и его жилете.
Андре Бретон
Роже Витраку
Скоро сады настигнут нас подобно огням маяка
Пузыри-великаны лопнут на поверхности прудов
Лишь эмблематичные кристаллизации — маятник любви и пять белых углей —
Свидетельствуют: небо ещё чутко.
Появится и прекрасная лента
Бесконечно обвиваясь вокруг абстрактных и естественных красот
О друзья мои, закроем глаза
Пока не услышим, как перестанут свистеть
Прозрачные змеи пространств
Ведь мы живём в абсолютной древности, —
В каждом луче есть слуховое оконце,
и в каждом может явиться Горгона
Мы уже помогли перемещеньям своих рук
Не двигаясь, мы смотрели с берега реки
Как трудно даётся подъём крыла
Как другие учатся опустошать бесшумно
Карманы висящей, украшенной колокольчиками одежды:
Когда мы поднимаем голову, небо пеленает взгляд
Зажмуримся, и станет ясно, где нас нет,
Где, обманывая невозможную звезду на ветке,
Мы будем плясать — подобно огню на наших блёстках
И будет так всегда
Мы пройдём изумительными мостами
Мы бросимся в юдоль слёз
И даже лебеди однажды перестанут отвечать нам
На обратном пути к идеальным формам
Кто первым волшебную опасность
Стреножит воображаемой нитью,
Чтобы выйти наконец на просёлочную дорогу
Он стал так
ужасен, что,
проведя рукой по лицу,
сам почувствовал своё
безобразие.
Анатоль Франс. "Таис"
Ошибка
Анатоль Франс не умер: он не умрёт
никогда. Какие-нибудь лихие писатели через дюжину лет обязательно придумают
нового Анатоля. Некоторые люди буквально не могут прожить без этого
комического персонажа, самого "великого человека века", "писателя-мастера".
Они собирают малейшие слова, изучают с лупой малейшие фразы и потом блеют:
"Как это прекрасно... да ведь это же потрясающе, это блестяще! Мастер
на века".
Тот, кто покинул нас, был, однако, не очень симпатичен. Он думал всегда
лишь о своём интересике, о своём здоровьице. Он жил в постоянном ожидании
смерти, как нам представляется. Красивая позиция. Но задумаемся всерьёз: что
он делал, о чём думал? Ибо сегодня речь идёт только о том, чтобы положить
пальмовую ветвь на его гроб — самую тяжёлую ветвь — и задушить воспоминание
о нём.
Побольше достоинства, господа родственники. Рыдайте всеми слезами
своего тела. Анатоль отдал богу то, что называется душой. Вам нечего больше
ждать от его памяти — мягкой и сухой. Всё кончено!
Уже спускается ночь. Если хватит духу пробежать некрологи, мы удивимся
бедности похвал, предназначенных светочу Франсу. Какие грустные венки из
целлулоида! Все повторяют слова Барреса: "Он очень поддерживал нас". Какое
коварство! Поддерживать французский язык — это напоминает старшину или очень
педантичного школьного учителя. Я думаю, это очень странная идея — терять
столько минут, чтобы прощаться с трупом, у которого вынули мозг! Поскольку
всё кончено, хватит об этом говорить.
Я присутствовал сегодня на весьма красивых зрелищах. Служащие
похоронного бюро что-то не поделили у гроба. Я видел также какую-то женщину
в трауре, с креповой вуалью, она шла в больницу поточить лясы со своим
умирающим муженьком и показать ему новую одежду, которую она купила утром в
ожидании его смерти.
Филипп Супо
Обыкновенный старикашка
Лик славы, лик смерти — вот лицо Анатоля
Франса — живого и мёртвого. Труп, мы не любим тебе подобных. Однако у тебя
много оправданий для долгой жизни — красота и гармония, которые наполняют
тебя уверенностью, возлагают тебе на губы добрую улыбку, улыбку отца
семейства. Красота, труп, мы знаем её хорошо, и если мы соглашаемся на неё,
это именно потому, что у нас она не вызывает улыбки. Мы полюбили огонь и
воду только тогда, когда возжелали в них броситься. Гармония — ах! гармония
— узел твоего галстука, мой дорогой труп, и твои мозги поодаль, прекрасно
уложенные в гробу, и слёзы, что так сладки, не правда ли.
То, что я больше не способен представить без слёз на глазах — это
Жизнь; она является сегодня в маленьких смехотворных вещах, которым
поддержкой может быть только нежность. Скептицизм, ирония, подлость,
Франция, французский дух — что это всё такое? Мощный порыв забвения уносит
меня далеко-далеко. Может быть, я вообще никогда не читал, не видел ничего
из того, что обесчещивает Жизнь?
Поль
Элюар
Не подлежит погребению
Если ещё при жизни говорить об Анатоле
Франсе было слишком поздно, посмотрим с признательностью на газету, что
уносит его, злостную ежедневную газету, что сначала его привела. Лоти,
Баррес, Франс — отметим, однако, прекрасным белым знаком год, который
похоронил всех этих троих мрачных господ: идиота, предателя и полицейского.
Последнему мы дадим, я не возражаю, особенно презрительное имя. Вместе с
Франсом уходит хотя бы крупица человеческого рабства. Пусть будет праздником
тот день, когда мы хороним хитрость, традиционализм, патриотизм,
оппортунизм, скептицизм, реализм и неискренность! Подумать только, что самые
низкие комедианты того времени кумовались с Анатолем Франсом, и мы не
простим ему никогда, что он украшал в цвета Революции свою сияющую
нелепость. Пусть откроют, для того чтобы запереть в нём труп, ящик на
парижских набережных, ящик со старыми книжками, которые "он так любил", и
пусть бросят это в Сену. Нельзя, чтобы смерть этого человека поднимала пыль.
Андре Бретон
Вы когда-нибудь давали пощечину мертвецу?
Сам на себя сержусь, когда по какому-то
машинальному утомлению я начинаю листать дневники разных людей. Именно здесь
проявляется вся банальность мышления, к которому они так согласно приходят в
один прекрасный день. Их существование основано на вере в это согласие,
именно в нём всё, что их возбуждает. Кто-то должен наконец собрать их
голоса, чтобы ещё один мог бы собрать голоса самых последних из людей, и
этот человек был бы совершенно банальной фигурой, материализацией этой веры.
Местные муниципальные советы, на мой неразличающий взгляд, слишком
волнуются сегодня из-за какой-то ничтожной смерти, ставят на фронтон своих
школ плиты с его именем. Этого должно быть достаточно, чтобы описать того,
кто недавно покинул нас, ибо невозможно представить себе, чтобы Бодлер,
например, или кто-нибудь из тех, кто достиг высшего предела и бросал вызов
смерти, наслаждались дифирамбами прессы или современников, как вульгарный
Анатоль Франс. Что было у последнего, умилявшего всех тех, кто сам воплощает
отрицание чувства и величия? Приблизительный стиль, который каждый считает
себя вправе обсуждать по рекомендациям преподавателя; язык — всеми
восхваляемый, в то время как язык существует лишь по ту сторону вульгарных
оценок. Человек иронии и здравого смысла, трусливо учитывающий всё из страха
показаться смешным, — он, уверяю вас, писал очень плохо. Но и хорошо писать
— этого слишком мало, если не знаешь, стоит ли это писать. Посредственность,
ограниченность, страх, уступчивость любой ценой, незадачливая спекуляция,
пораженчество, удовлетворённость самим собой, безукоризненная честность,
простота, думающий тростник — найдут себя после долгого труда в этом Бержере,
нежность которого напрасно мне будут доказывать. Спасибо, я не хочу кончать
жизнь в этом простом климате — жизнь, которая не заботится об извинениях и о
том, что о ней скажут другие.
Я считаю любого почитателя Анатоля Франса дегенератом. Мне нравится,
что литератор, которого приветствуют сегодня одновременно и тапир Моррас, и
слабоумная Москва, и даже, по своей невероятной глупости, сам Поль Пенлеве,
написал, чеканя монету гнуснейшего инстинкта, самое обесчещивающее из
предисловий к графу де Саду — тому, кто провёл всю жизнь в тюрьме, чтобы
получить в конце концов пинок ногой от этого официального осла. То, что вам
льстит в нём, что делает его священным, а меня не трогает, это даже не
талант, весьма сомнительный, но низость, позволяющая первому встречному
бездельнику восклицать: "Как же я не подумал об этом раньше!" Омерзительный
фигляр духа, он поистине выразил собой всё французское бесчестье, ибо этот
тёмный народ оказывается до такой степени счастлив, что одолжил ему свое
имя! Бормочите же всласть об этой загнивающей вещи, об этом черве, которым,
в свою очередь, завладеют черви, вы, опилки человечества, обыкновенные
людишки, лавочники и болтуны, слуги государства, слуги живота, индивиды,
погрязшие в грязи и деньгах, вы, потерявшие такого прекрасного слугу
суверенного компромисса, богиню ваших очагов и ваших милых радостей.
Я нахожусь сегодня в самом центре этого гниения, в Париже, где солнце
бледно, а ветер вверяет трубам свой ужас и томность. Вокруг меня происходит
копошение, ничтожное движение космоса, всё величие которого стало объектом
насмешки. Дыхание моего собеседника отравлено невежеством. Во Франции, как
говорят, всё кончается песенками. Пусть тогда тот, кто только что подох в
сердце всеобщего благоденствия, обратится, в свою очередь, в дым! От
человека вообще остаётся мало, ещё более возмутительным будет вообразить
себе, что он был человеком. Я уже несколько дней мечтаю о резинке,
чтобы стереть человеческую низость.
Луи
Арагон
Жак-Андре Буаффар, Поль Элюар, Роже Витрак
Процесс познания исчерпан, интеллект не
принимается больше в расчёт, только грёза оставляет человеку все права на
свободу. Благодаря грёзе смерть обретает вполне ясный смысл и смысл жизни
становится безразличен.
По утрам в каждой семье мужчины, женщины и дети, если им в голову не
приходит ничего лучшего, рассказывают друг другу сны. Мы все зависим от
милости грёз, мы обязаны грёзам, ощущая их власть, когда бодрствуем. Это
страшный тиран, обряженный зеркалами и вспышками. Что такое бумага и перо,
что такое письмо, что такое поэзия перед этим гигантом, который держит
своими мышцами мускулы облаков? Вы бормочете что-то заплетающимся языком при
виде змеи, не ведая о мёртвых листьях и ловушках из стекла, вы боитесь за
своё состояние, за своё сердце и свои удовольствия, и вы ищете в тени грёз
математические знаки, которые сделают вашу смерть более естественной. Иные,
и это пророки, слепо направляют силы ночи к будущему, заря говорит их
устами, и восхищённый мир ужасается или поздравляет себя с праздником.
Сюрреализм открывает двери грёзы всем тем, для кого ночь слишком скупа.
Сюрреализм — это перекрёсток чарующих сновидений, алкоголя, табака, кокаина,
морфина; но он ещё и разрушитель цепей; мы не спим, мы не пьём, мы не курим,
мы не нюхаем, мы не колемся — мы грезим; и быстрота ламповых игл вводит в
наши мозги чудесную губку, очищенную от золота. О! Если бы кости раздулись,
как дирижабли, мы бы увидели потёмки Мёртвого моря. Дорога — это часовой,
стоящий против ветра, она обнимает нас и заставляет дрожать при виде
мерцающих рубиновых очертаний. Вы, приклеенные к отголоскам наших ушей, как
часы-спрут к стене времени, вы придумываете бедные истории, которые заставят
нас беспечно улыбаться. Мы не будем больше себя беспокоить, и напрасно нам
будут повторять: идея движения прежде всего инертна, и древо скорости
явится нам. Мозг крутится, как ангел, наши слова — зёрна свинца, убивающие
птиц. Природа одарила вас властью зажигать электричество в полдень и стоять
под дождем, сохраняя в своих глазах солнце, ваши акты — незаинтересованны, а
наши — нам пригрезились. Всё в мире — перешёптывания, совпадения; молчание и
искра сами похищают своё появление. Дерево, нагруженное мясом, возникшим
между камнями мостовой, сверхъестественно благодаря нашему удивлению; но,
едва мы закроем глаза, оно само ожидает торжественного открытия.
Каждое открытие, изменяющее природу,
назначение предмета или феномена, является сюрреалистическим фактом. Между
Наполеоном и бюстом френологов, которые его воспроизводят, проходят все
сражения Империи. Мы далеки от мысли использовать эти образы и изменять их в
том направлении, которое могло бы заставить поверить в прогресс. Чтобы
показать, как после дистилляции жидкости возникает алкоголь, молоко или газ
для освещения, можно создать множество вполне удовлетворительных образов и
ничтожных вымыслов. Никакой трансформации не происходит, однако тот, ещё
невидимый, кто пишет, будет считаться отсутствующим. Одиночество Любви —
человек, впадающий в тебя, совершает бесконечное и фатальное преступление.
Одиночество письма — тебя невозможно познать безнаказанно; твои жертвы,
зацепленные зубчатым колесом жестоких звёзд, воскресают сами по себе.
Вспомним о сюрреалистической экзальтации мистиков, изобретателей и
пророков и пройдём мимо. Впрочем, в этом журнале вы найдёте хронику выдумки,
моды, жизни, изящных искусств и магии. Мода будет рассматриваться здесь в
зависимости от притяжения белых букв к ночной плоти, жизнь — в зависимости
от деления дня и запахов, изящные искусства — в зависимости от конька на
крыше, который говорит "гроза" колоколам столетних кедров, и магия — в
зависимости от движения сфер в глазах слепцов.
Автоматы уже размножаются и грезят. В кафе они сразу просят что-нибудь
для письма, мраморные вены — это графика их побега, и их машины одиноко едут
в Лес.
Революция... Революция... Реализм — это подрезать деревья, сюрреализм —
это подрезать жизнь.
Луи Арагон
Когда передо мной самые плохонькие
сочинения, банально беспорядочные или трогательно наивные, но я при этом
способен осознать, что передо мною всё-таки сочинения, именно это свойство —
придуманность, изобретённость — поражает меня, как бы эфемерны и нелепы они
ни были; и моё сердце уже не может оставаться равнодушным. Я много раз
испытывал паническое чувство на Выставках Конкур Лепин, куда я возвращаюсь,
сам не знаю почему, каждый год и прогуливаюсь среди изобретений: дурацких
игрушек и удивительных приспособлений, что оказывают весьма сомнительную
службу домашним хозяйкам. Чайные ситечки, розетки подсвечника на пружине
наводят на меня порой непреодолимый ужас. В такие минуты я пытаюсь
представить себе человека, придумавшего всё это, и спокойно опускаюсь в
пропасть.
Открытие — интеллектуальный удар грома, оно не соизмеримо ни с
порождаемой им любовью, ни с её разрушительной силой. Тот же механизм
действовал и при открытии лампы Галилея, и при создании игрушки — деревянных
дровосеков, рубящих по очереди ствол дерева. Возникает чудесное, оно не
прекращает существовать благодаря имагинативной длительности, в процессе
которой кажется, что дух продуцирует из самого себя некий принцип, который
не был в него вложен изначально. Универсализация открытия, то есть признание
его ценности, какой бы неожиданной она ни оказалась, всегда остаётся ниже
момента мысли. Судья, умеющий останавливаться только на последствиях,
рискует уменьшить эффект, производимый мыслью; нет сомнения, что Гегель
предпочёл бы яблоку Ньютона ту сечку, которую я видел вчера у торговца
скобяным товаром на улице Монж, её реклама убеждала, что "эта уникальная
сечка открывается, как книга".
На перекрёстке грёз, куда приходит человек, не ведая о продолжении
своей долгой прогулки, прекрасное безразличие золотит отсветы универсума.
Когда на первом плане наших воспоминаний возникают полезные изобретения,
прославлены будут исключительно они прежде всего и всегда, но обратите
внимание на их тень: не в ней ли их истинная природа? В тот момент, когда
формируются тени, эти машины практической жизни ещё только пробуждаются с
неубранными волосами сна, с безумными глазами, ещё не адаптированными к
миру, что делает их близкими простому поэтическому образу, скользящему
миражу, из которого они едва ли вышли, ещё не протрезвев. И тут сам инженер
начинает отрекаться от своего гения, он снова берёт эту галлюцинацию и, так
сказать, калькирует её, переводит, ставит на расстояние протянутой руки
неверующих. Потом, в свою очередь, вмешивается опыт. Но на той необъяснимой
стадии, в той таинственной точке, где чистое изобретение не продиктовано ни
использованием, которое ему уготовило будущее, ни медитативной
необходимостью, в тот миг, когда изобретение только появляется на свет, едва
начиная осознавать себя, когда оно чуть-чуть приподнимается, оно являет
собой некое новое отношение, безумие, которое позже превратится в
реальность. Загадка, аналогичная заре. Вы призываете на помощь понятие
случайности, но это доказывает, что вы всего лишь пасуете перед
запутанностью и случайностями самого воображения; однако вы прекрасно
видите, что я способен их вообразить. Другое решение — частное применение
общего закона — не лучше. Согласование изобретения и закона происходит
последовательно, когда дух входит в свои права и утверждается. Знал ли
мелкий ремесленник, закрутивший первым вокруг оси с орнаментом красную рыбку
металлического полукруга, вращение которого образует удивительный бокал
сияющей и настоящей воды, знал ли он о стойкости впечатлений, отложившихся
на сетчатке глаза? И думал ли он о своих доходах? Я осмелюсь предположить,
что он был одержим идеями движения и воды — действующей метафоры, в которой
сочетались браком прозрачность и отблеск.
Абстрагировать и изобретать — действия, совершенно противоположные друг
другу. Изобретение может быть только в сфере частного. Я всё больше
убеждаюсь в верности этих предположений. Но меня сдерживают распространённые
ложные представления об абстрактном, конкретном и различных других способах
познания. Надо сказать, что некоторые умы, лучшие умы, прекрасно
поспособствовали смешению этих понятий. В отличие от моей точки зрения,
возобладало парадоксальное мнение: обыденное познание абсолютно конкретно и,
следовательно, абстрактное является прогрессивным шагом вперёд по сравнению
с ним. Итак, если я анализирую идеи, сформированные мною относительно любого
предмета, когда мне это заблагорассудится, я всегда нахожу подходящее слово.
Противопоставление научного и обыденного познания — ошибочно, ибо они оба
почти одинаково абстрактны и различаются лишь тем, что научному познанию
удалось избавиться от некоторых безосновательных мнений, которые перегружали
первичную абстракцию при её рождении. Философское познание, если таковое
действительно заслуживает этого названия, действует иначе: объекты, идеи
представляют собой вовсе не пустые абстракции или смутные мнения, но они
обретают некое абсолютное содержание, когда реализуются в сфере особенного,
при своём минимальном распространении; то есть речь идёт об объектах и идеях
в их конкретной форме. Нетрудно заметить: это не что иное, как образ,
который и есть способ познания поэтического, ибо поэтическое — это способ
познания. В этом смысле философия и поэзия — одно и то же. Конкретное — это
последний момент мысли, подобное состояние конкретной мысли и есть поэзия.
Можно легко понять, что я подразумеваю под формулой "изобретение возможно
только в сфере частного": конкретное является самой материей изобретения, а
механизм изобретения сводится к механизму поэтического познания, то есть к
вдохновению.
Обыденное познание происходит в соответствии с некими постоянными
отношениями и сопровождается суждением о тех абстракциях, которыми она
манипулирует: это суждение есть реальность. Однако идея реального чужда
всякой истинной философии. Было бы безумием приписывать конкретному понятию
то, что свойственно абстракции, которую считают идеальной с точки зрения
духа. Отрицая реальное, философское познание устанавливает прежде всего
новое отношение внутри своего материала — это отношение ирреального: и тогда
изобретение, например, сразу передвигается в область ирреального. Потом оно,
в свою очередь, отрицает ирреальное и преодолевает обе эти идеи,
воспользовавшись последним средством, благодаря которому они одновременно
отрицаются и утверждаются, что примиряет и поддерживает их: это последнее
средство — сюрреальное, которое представляет собой также одно из определений
поэзии. Итак, изобретение — это установление сюрреального отношения между
конкретными элементами, механизмом изобретения является вдохновение.
Возможно, вы уже знаете, что поиск сюрреального, методы утверждения его
доминирующей роли приняли в повседневном языке имя сюрреализма. Немного
поразмыслив, вы научитесь различать, какие изобретения являются чисто
сюрреалистическими. Сюрреальная природа установленного отношения в некотором
смысле очевидна, несмотря на деформацию с точки зрения практического
применения. Подобные изобретения хранят следы различных моментов жизни духа
и его исканий: размышление над реальным, его отрицание, его примирение и
абсолютный посредник, объединяющий рассмотрение, отрицание и примирение.
Философские изобретения — предмет постоянных острот со стороны черни,
которую разочаровывают противоречия, она даже изобрела смех, чтобы с честью
выходить из положения в присутствии противоречий. Это тот юмор, что фальшиво
позванивает колокольчиками в человеческом стаде. Однако есть и другой юмор:
юмор как определение поэзии, в том случае если она устанавливает сюрреальное
отношение в его полном развитии. Именно это свойство юмора, вероятно, и
делает изобретение сюрреалистическим. Следовательно, в подобном изобретении
поражает вовсе не его полезность, которая не способна объяснить
сюрреального; полезность только ещё больше нас запутывает, тем более что
сама постепенно сходит на нет. Такое изобретение невозможно передать и через
понятие игры. Игра не подходит: игровая деятельность не способна
удовлетворить породивший её ум. Прекрасно понимая ход игры, ум не способен
отделиться от её тайны, он завяз в области странного, как в болоте, он
больше не верит в порождённую им игру.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Отличительные признаки подобной изобретательной выдумки, способной
изменять свой темп, функции своих элементов, направляя их к неформулируемой
цели, во имя торжества этого юмора, что представляется только для дураков
внешне противоречивым и порой даже смешным, — я нахожу эти признаки в целом
ряде манёвров, ставящих под вопрос значение небольших привычных объектов и
никогда не бывших поводом для скептицизма. Таковы предметы нашей
общественной игры, например: носовой платок, спичка, верёвка, ключи...
которые не вызывают ни смеха, ни слёз, мы почти не смотрим на них, лишь
изредка берём в руки, и первоначально они кажутся безразличными духу. И я
брошу вызов тому, кто посчитает возможным анализировать заключённый в них
разумный интерес. Это чистые продукты воображения, это само воображение, а
значит, они должны ускользать от разумения. Так, установленная на тротуаре
спичка подобно комете запускается в комнату одним-единственным щелчком; а
если три спички поставить портиком на спичечную коробку и зажечь посередине
поперечную спичку, то вся конструкция полетит, и т. д. Чистые изобретения,
для которых никто не ищет ни утилитарного применения, ни даже иллюзии
применения, и являются непосредственным воплощением сюрреалистического юмора
вне его специальных мизансцен. Это не игры, но философские деяния первой
величины. (В первую очередь, отрицается реальность спички как спички,
утверждается её ирреальность, и эта спичка, следовательно, может быть чем
угодно другим — деревом, ракетой, песенкой; далее, её применение можно
извратить, вывернуть, и она будет относиться к сфере деятельности, которая
не известна сама себе, это будет новое, неопределённое, само себя
изобретающее, то есть сюрреальное применение, и именно тогда возникнет
иллюзорное объяснение этого факта как игры, примиряющей противоречивую суть
спички для внешнего наблюдателя, однако это объяснение должно на самом деле
уступить дорогу поэзии, единственной правдоподобной интерпретации этого
щелчка — вон из реальности.)
Роже Витрак
Я всегда испытывал безграничное доверие
к отдельным физиономиям. Эти лица неопровержимо являются мне в подходящий
момент моей жизни, и они не могут пропасть или испариться. Некоторые могут,
наверное, претерпевать трансформации, я ещё не знаком с такими. Другие
остаются неизменными и вспыхивают временами, как сияния. От них у меня
опускаются веки, но они неизменно участвуют в одной и той же внутренней
ночи, в одном и том же чуде.
И в тот миг, когда я познал бесконечное поражение, я увидел Андре
Бретона. Но лишь два года спустя я реально познакомился с ним. В одном
укромном уголке Люксембургского сада, где он стоял целый час с широко
раскрытыми глазами. Перед моими глазами танцевала пластина, раскалённая
добела. Я обязательно должен с ним познакомиться. Откровения — не наше дело.
Детерминизм — просто шутка. В тот момент он протягивал мне руку, и два года
были раздавлены нашим рукопожатием. Два года, страшно сказать. Жизнь так
длинна по ту сторону смерти.
Умереть в любом возрасте — вот великая истина. Признанная слабость
перед жизнью является источником больших беспокойств. Смерть презирает
слабых. Только у сильных достаёт сил в ногах, чтобы перейти на другую
сторону. Андре Бретон живёт в нашей половине, уже в Прошлом, как вы это
называете. Ибо вы узнаете сегодня, что всем вам сто лет.
Всё, что происходит от смерти, интересует только умы, достойные этого
имени. Сон — не пародия, как театр. Сон — это обучение смерти. Сны —
священны. Нет ничего более кощунственного, чем манипуляции аббата Мори или
Фрейда. Грёзы говорят на языке, который не принадлежит Логике. Этот язык
можно было бы отнести к поэзии, если бы я не опасался, называя это слово,
напомнить о более низком царстве. Этот язык принадлежит смерти. Всё, что
принадлежит смерти, принадлежит Андре Бретону.
Жесты на свободе сильнее, чем движения лазури. Их нельзя никому
передать, они, словно сам Господь Бог, как это признают Писания. Свободный
как воздух, говорят. Это правда. Андре Бретон свободен, как воздух.
Раскройте же мне тайну этих револьверов, которые стреляют сами по себе? Сами
по себе? Ну вот ещё. Они заряжены, как все остальные. Они заряжены, как вы
сами, ожидающие, что у вас вырастут такие ноги, что можно будет шагнуть в
другое царство. "Как велики ступни этих людей!" — говорят Священные Писания.
Доспехи архангелов были сняты в большой тайне. Снимите с меня это. В
большой тайне кто-то формируется после своего рождения, после жизни, в
течение жизни. Необходимо узнать объект. Объект — это я. Но именно Андре
Бретон — единственный — узнал об этом первым.
Слова? Мы искали их повсюду. Мозг был просто изрешечен ими. Мы открыли
его. Он был бел, как гипс. Мы отыскали их в книгах. Андре Бретон не читал
книг. Он знал, что место слов — нигде.
Вокруг духа поднимаются паруса, это простыни, как мы пытаемся сострить.
Это покой и свет. Это дружба. Я среди друзей Андре Бретона благодаря тому
доверию, какое они мне оказывают. Но это не доверие. Ни у кого нет доверия.
Это благодать. Я желаю вам её. Я вам желаю благодати.
Море принадлежит женщинам, подобно тому как смерть принадлежит
мужчинам. Любовь принадлежит всем полам. Можио нарисовать в графике
прекрасный философский символ. Нарисовать ножом на обнажённом плече. Это
делается только в очень серьёзных случаях. К тому же это делается очень
плохо. Андре Бретон сделает это лучше.
Андре Бретон написал несколько книг: "Гора-Сострадание", "Магнитные
поля", "Сияние Земли", "Потерянные шаги". Вы найдёте в этих книгах
значительно больше, чем в этой статье.
Есть границы, которые невозможно пересечь без риска и опасности. Риск —
источник чудеснейших желаний, опасность — самое большое вожделение. Жить,
рискуя всем, словно в единении со всеми рисками. Осуществлять самые опасные
миссии — вот что способно взломать человеческую оболочку. Вот вам метафора:
сделать Земле ребёнка. Совсем одного, одинокого, одного. Увы! Этот ребёнок —
не мы. Но ребёнок не может быть некстати.
Здравствуй, Андре Бретон.
Джорджио де Кирико
Я тщетно борюсь с мужчиной, у которого
косые и очень сладкие глаза. Каждый раз я душу его, мягко отстраняя его
руки, но руки эти, невыразимо сильные и чудовищно мощные, точно неодолимые
рычаги, всемогущие машины; это гигантские краны, поднимающие над
муравейниками строек целые кварталы плавающих крепостей с башенками,
тяжёлыми, как груди допотопных млекопитающих. Я тщетно борюсь с мужчиной, у
которого косые и очень сладкие глаза; из каждого неистового объятия он мягко
высвобождается, улыбаясь и слегка отстраняя руки... Это мой отец, он
является мне во сне, и, однако, когда я смотрю на него, он совсем не такой,
каким я видел его при жизни, в моём детстве. И всё же это он; есть что-то
отстранённое в выражении его лица; нечто, вероятно, существовавшее при его
жизни отчётливо является мне теперь, более чем двадцать лет спустя, когда я
снова вижу его во сне.
Борьба заканчивается отказом; я отступаю; потом образы смешиваются;
река (По или Пенея), которая — я ощущал во время борьбы — протекает где-то
рядом со мной, покрывается мраком; образы перемешиваются, словно грозовые
облака спустились низко-низко на землю; наступает интермеццо, во время
которого я, возможно, вижу другие грёзы, но ничего не помню, кроме
мучительных поисков вдоль тёмных дорог, когда сон снова проясняется. Я
нахожусь на площади великой метафизической красоты; это пьяцца Кавур во
Флоренции, наверное; или, может быть, одна из тех прекрасных площадей
Турина, или, может быть, ни то ни другое; с одной стороны видны портики, над
которыми возвышаются квартиры с закрытыми ставнями, торжественными
балконами. На горизонте видны холмы с виллами; на площади небо очень светло,
оно вымыто грозой, однако чувствуется, что заходит солнце, ибо тени домов и
редкие прохожие на площади кажутся очень длинными. Я смотрю в сторону
холмов, куда спешат, убегая, последние грозовые облака; местами виллы совсем
белые, и в них есть что-то торжественное и гробовое; я смотрю на них против
очень чёрного занавеса неба в этой точке. Вдруг я оказываюсь рядом с
портиками, перемешанными с группой людей, что спешат к двери какой-то
булочной, этажи которой переполнены разноцветными пирогами; толпа торопится
и смотрит внутрь, словно в двери аптеки, когда в них вносят прохожего:
возможно, он ранен или у него начался приступ прямо на улице; но вот, глядя
на это, я увидел моего отца со спины, он стоял посреди булочной и поедал
пирог; однако я не знаю, уж не из-за него ли так торопится толпа; тогда меня
охватила некая тоска, и возникло желание бежать на восток, в более
гостеприимную и новую страну, и одновременно я стал искать под моими
одеждами нож или кинжал, ибо мне кажется, что в той булочной моему отцу
угрожает опасность, и я чувствую, если я в неё войду, то кинжал или нож
будут мне необходимы, как если бы я заходил в бандитский притон; но моя
тоска усиливается, внезапно толпа затягивает меня в свой водоворот и
увлекает к холмам; у меня впечатление, что мой отец уже не в булочной, он
скрылся, а меня будут преследовать, как вора; и я просыпаюсь, томимый этой
мыслью.
Ввиду неверной интерпретации наших
опытов, по глупости распространённой среди публики, мы считаем необходимым
заявить нижеследующее, специально для современных косноязычных критиков —
литературных, драматических, философских, экзегетических и даже
теологических:
1. У нас нет ничего общего с литературой. Но мы способны, если нужно,
применять её, как другие.
2. Сюрреализм — это не новое или более простое средство
выражения, это даже не метафизика поэзии.
Сюрреализм — средство тотального освобождения духа и всего, что на
него похоже.
3. Мы решились делать Революцию.
4. Мы приклеили слово сюрреализм к слову революция только
для того, чтобы показать незаинтересованный, изолированный и даже абсолютно
отчаянный характер этой революции.
5. Мы не претендуем на изменение нравов людей, но мы хотим
продемонстрировать хрупкость их мыслей и то, что они установили свои
дрожащие дома на подвижном фундаменте с пустыми полостями.
6. Мы предлагаем Обществу наше торжественное предупреждение.
Пусть оно обращает внимание на эти отклонения, на каждый неверный шаг
духа, но ему от нас не уйти.
7. Общество найдёт нас на каждом повороте своей мысли.
8. Мы специалисты по Бунту. Нет такого средства действия, которое мы
были бы не способны применить в случае необходимости.
9. Мы говорим ещё раз специально западному миру: сюрреализм
существует.
— Но что же это за новый изм привешивают на нас?
— Сюрреализм — это не поэтическая форма.
Это крик духа, который обращается к себе самому и который решился в
отчаянии разорвать свои путы, и при необходимости с помощью вполне
материальных молотков!
|
Из
Бюро сюрреалистических Исследований, |
Луи Арагон, Антонен Арто, Жак Барон, Жоэ Буске, Ж.-А. Буаффар, Андре Бретон, Жан Каррив, Рене Кревель, Робер Деснос, Поль Элюар, Макс Эрнст, Т. Френкель, Франсис Жерар, Мишель Лейрис, Жорж Лэмбур, Матиас Любек, Жорж Малкин, Андре Массой, Макс Мориз, Пьер Навилль, Марсель Нолль, Бенжамен Пере, Рэмон Кено, Филипп Супо, Деде Санбим, Ролан Тюаль
Наши призывы, приглашающие публику в
Бюро сюрреалистических Исследований, были услышаны. Барьер безразличия,
который остаётся непреодолимым для большинства, наконец разрушен. Несколько
критиков, ничего не ведая о проблеме и подчиняясь групповым интересам,
пытались шутить о смелости этой манифестации; иные, лучше информированные,
умилились ей; третьи увидели в ней реальную опасность. (Некоторые попытались
приписать наш успех любопытству; лишь бедность восприятия наших намерений
может оправдать такой подход.)
Отныне число людей, которых мы принимаем, увеличивается день ото дня; и
хотя побудительные мотивы их поступков очень различны, начинает
оправдываться надежда, которую мы вкладываем в неведомое, ежедневно
открывающееся нам.
Бюро сюрреалистических Исследований открыто с 11 октября 1924 года в
доме 15 по улице Гренель, в Париже, ежедневно, кроме воскресенья, с 4 ч. 1/2
по 6 ч. 1/2. Два человека обязаны обеспечивать ежедневное дежурство. Многие
сообщения по этому поводу были отосланы в прессу, мы воспроизводим здесь
частично одно из них, не утратившее своей актуальности: "Бюро
сюрреалистических Исследований служит для сбора всех средств, сообщений,
относящихся к разным формам, которые может принимать бессознательная
деятельность духа. Никакой области не отдаётся предпочтение a priori в этом
предприятии, и сюрреализм предполагает собрать возможно большее количество
экспериментальных данных с целью, которая ещё не успела проявиться. Все, кто
в состоянии способствовать каким бы то ни было способом созданию настоящих
сюрреалистических архивов, срочно приглашаются продемонстрировать это нам:
пусть они просветят нас по поводу генезиса вымысла, пусть они предложат нам
неизвестную доселе систему исследований психики, пусть они заставят нас
судить о поразительных совпадениях, пусть они изложат нам свои самые
инстинктивные идеи о моде, равно как и о политике, и т. д. ... или пусть
они, наконец, ограничатся тем, что доверят нам свои самые любопытные
сновидения и то, о чём они им возвещают".
Бюро сюрреалистических Исследований должно быть прежде всего органом
связи. Именно в этом смысл его деятельности. Нужно, чтобы любопытство,
которое испытывает большое число людей по отношению к нам, стало реальным
интересом и все визиты, сделанные к нам в Бюро Исследований,
действительно демонстрировали бы некий новый вклад. Кроме
журналистов, чьи посещения поддерживают наш контакт с самой широкой
публикой, мы приняли людей самых различных намерений, из которых большинство
не знали почти ничего о сюрреализме. Поддержим тех, кто пришёл к нам из
чистой симпатии, не будучи с нами согласен; если таких бесконечно много, то
в полку личностей активных прибавится. Наконец мы познакомились с некоторыми
людьми, решения которых были уже крайне похожи на наши: они уже с нами и
действуют...
ОБРАЩЕНИЕ
В целях самого прямого и эффективного
воздействия решено, "что с 30 января 1925 года Бюро сюрреалистических
Исследований будет закрыто для публики. Работа будет продолжаться, но в
другой форме. С этого момента Антонен Арто становится директором Бюро.
Совокупность определённых проектов и манифестаций, которые различные
комитеты осуществляют в настоящее время совместно с А. Арто, будут изложены
в третьем номере "Сюрреалистической революции".
Центральное Бюро по-прежнему в добром здравии; оно представляет
собой отныне закрытое место, но все должны знать, что Бюро существует.
Тексты, на которых указан адрес Бюро сюрреалистических Исследований: улица Гренель, 15, Париж, 7-й округ, в часы дежурства.
СЮРРЕАЛИЗМ —
это отрицаемое письмо
Вы, у которых свинец в голове,
расплавьте его и сделайте сюрреалистическое золото
Если вы любите
ЛЮБОВЬ
вы полюбите
СЮРРЕАЛИЗМ
СЮРРЕАЛИЗМ
достижим
всеми бессознательными
Родители!
Рассказывайте детям ваши сны
Антонен Арто
|
* * *
Я разрушаю, поскольку для меня не годится всё, что проистекает из разума. Я верю теперь лишь в свидетельство того, что возбуждает мои жизненные соки, а не того, что обращено к моему разуму. Я обнаружил различные этажи в области нервной энергии. Сейчас я чувствую себя способным различать разные свидетельства. Для меня существует и некое свидетельство в области чистой плоти, и оно не имеет никакого отношения к свидетельству разума. Вечный конфликт между сердцем и разумом проявляется и в самой моей плоти, однако это плоть, питаемая нервами. Образ, предлагаемый моими нервами в области непостижимо аффективного, обретает форму самой высокой интеллектуальности, и я отказываюсь лишать его этой формы. Именно так я способствую формированию концепции, несущей в себе самой внезапное сияние вещей, настигающее меня шумом творения. Ни один образ не удовлетворяет меня, если только он не является одновременно Познанием, если он не несёт в себе как свою ясность, так и свою сущность. Мой усталый дух дискурсивного разума стремится попасть в шестерёнки некой новой абсолютной гравитации. Это, как я представляю себе, есть высшая форма, в образовании которой участвуют только Законы Алогичного и в которой одерживает победу обнаружение нового Смысла. Это Смысл, затерянный в беспорядочной сумятице наркотиков, Смысл, помогающий образу глубже постигнуть противоречивые фантазии сна. Этот Смысл есть победа духа над самим собой, смысл, хотя и не сводимый к простым составляющим рассудка, но всё же существующий, хотя и внутри духа. Он есть порядок, он есть понимание, он есть знание хаоса. Даже хаос нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся, его приходится истолковывать; когда же его толкуешь, он исчезает. Он составляет логику Алогичного. И тем самым всё сказано. Моё ясное и прозрачное безрассудство не боится этого хаоса.
* * *
Я не отказываюсь ни от одного явления Духа. Я лишь хочу переместить свой дух в иные пространства — вместе со всеми его иконами и всеми его органами. Я не отдаюсь сексуальному автоматизму духа; напротив, я пытаюсь выделить в этом автоматизме такие открытия, которых не даёт мне ясный рассудок. Я отдаюсь лихорадке снов, но лишь затем, чтобы вывести из неё новые законы. Я ищу множества, тонкости, интеллектуального взгляда внутри горячечного безумия, а вовсе не случайных пророчеств. Есть тут острый нож, о котором я никогда не забываю.
* * *
Но этот нож, наполовину погружённый в сновидения, — это нож, который я держу вонзённым внутрь самого себя, нож, которому я не позволяю приблизиться к границе своих ясных чувств.
* * *
То, что принадлежит сфере образа, не
сводимо к построениям разума и должно оставаться внутри образа под угрозой
своего полного уничтожения.
Но всякий раз образ содержит некую долю разумности, в мире воображаемой
жизненности есть и более ясные образы.
В бессознательном копошении духа есть многообразный и блистательный внутренний крепёж, присущий животным. Это бесчувственная, но мыслящая аморфность управляет всем сообразно законам, которые она извлекает изнутри себя самой, — на границе слияния ясного разума и сознания, разума преодолённого.
* * *
В возвышенной сфере образов иллюзия как таковая, то есть настоящая ошибка, не существует вовсе, — по той веской причине, что тут присутствует иллюзия сознания; но по ещё более веской причине смысл нового осознания может и должен снисходить до реальной жизни.
Истина жизни заключена в импульсивности материи. Дух человеческий заболевает, окружённый этими понятиями. Не требуйте от него удовлетворённости, требуйте, чтобы он пребывал в спокойствии, веруя в своё назначение. Одна лишь Вера бывает поистине спокойной.