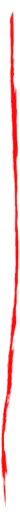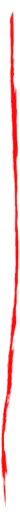
Антонен Арто
Ю н о ш а. Я тебя люблю, и всё прекрасно.
Д е в у ш к а (со всё усиливающейся дрожью в голосе). Ты меня любишь,
и всё прекрасно.
Ю н о ш а (тише). Я тебя люблю, и всё прекрасно.
Д е в у ш к а (ещё тише, чем он). Ты меня любишь, и всё прекрасно.
Ю н о ш а (внезапно покидая её). Я тебя люблю. (Пауза.) Встань передо
мной.
Д е в у ш к а (так же, вставая перед ним). Вот.
Ю н о ш а (внезапно, пронзительным голосом). Я тебя люблю, я велик, я
светел, я полон, я плотен.
Д е в у ш к а (таким же пронзительным голосом). Мы любим друг друга.
Ю н о ш а. Мы серьёзны в своих чувствах. Ах, как же устойчив мир.
Пауза. Слышен как бы шум огромного колеса, которое вращается и создаёт ветер. Ураган разделяет их. В это мгновение становятся видны два небесных светила, которые сталкиваются друг с другом, сверху начинает падать поток живых частей тела: ног, рук, волос, масок, колоннад, портиков, храмов, завитушек; они падают, но всё медленнее, как бы опускаясь в пустоте. Затем один за другим появляются три скорпиона и, наконец, лягушка и скарабей, которые опускаются отчаянно медленно, так медленно, что прямо-таки тошнит.
Ю н о ш а (крича изо всех сил). Небо сошло с ума. (Смотрит на небо.) Бежим отсюда. (Подталкивает девушку вперёд.)
Входит Средневековый Рыцарь в огромных доспехах, за ним следует кормилица; поддерживая обеими руками свои груди, она вздыхает, оттого что груди её слишком разбухли.
Р ы ц а р ь. Брось свои сиськи. Дай мне мои
бумаги.
К о р м и л и ц а (испуская пронзительный крик). Ах! Ах! Ах!
Р ы ц а р ь. Чёрт, что это на тебя нашло?
К о р м и л и ц а. Наша дочь, вон там, с ним.
Р ы ц а р ь. Да нет там никакой дочери, замолчи.
К о р м и л и ц а. А я тебе говорю, что они трахаются.
Р ы ц а р ь. Ну что поделаешь, если мне наплевать, что они трахаются.
К о р м и л и ц а. Кровосмешение.
Р ы ц а р ь. Матрона.
К о р м и л и ц а (запуская руки в свои карманы, которые столь же велики,
как и её груди). Сутенер. (Быстро бросает ему бумаги.)
Р ы ц а р ь. Фу, дай мне поесть.
Кормилица убегает. Тут он поднимается, и из каждого листка бумаги достаёт по огромному куску швейцарского сыра. Вдруг он начинает кашлять и задыхаться.
Р ы ц а р ь (с набитым ртом). Кха, кха. Покажи мне свои груди. Покажи мне свои груди. Куда она ушла?
Он выбегает. Юноша возвращается.
Ю н о ш а. Я видел, я узнал, я понял. Здесь публичное место, здесь священник, холодный сапожник, зеленщица, церковная паперть, фонарик борделя, весы правосудия. Я больше не могу!
Священник, сапожник, церковный сторож, сводня, судья, зеленщица появляются на сцене как тени.
Ю н о ш а. Я потерял её, верните её мне.
В с е (на разные голоса). Кого, кого, кого, кого.
Ю н о ш а. Мою жену.
Ц е р к о в н ы й с т о р о ж (очень пузатый). Вашу жену, что за
чушь, вот шутник!
Ю н о ш а. Шутник! Может, это вообще твоя!
Ц е р к о в н ы й с т о р о ж (хлопая себя по лбу). А может, и
правда. (Выбегает.)
Священник в свою очередь отделяется от группы и обнимает юношу за плечи.
С в я щ е н н и к (как в исповедальне).
На какую часть своего тела вы чаще всего ссылаетесь?
Ю н о ш а. На Бога.
Священник, обескураженный ответом, тотчас же начинает говорить со швейцарским акцентом.
С в я щ е н н и к (со швейцарским
акцентом). Но так больше не делай. Мы не слышим этим
ухом. Нужно спросить об этом у вулканов, у землетрясений. Мы-то в
исповедальне просто приводим в порядок грязные делишки людей.
И это всё, это и есть жизнь.
Ю н о ш а (весьма потрясённый). Ах вот оно что, это и есть жизнь! Ну
что ж, всем нужно убираться.
С в я щ е н н и к (всё так же, со швейцарским акцентом). Ну да.
В это мгновение на сцене внезапно наступает ночь. Земля дрожит. Разражается гроза, молнии зигзагами рассыпаются во всех направлениях, и под этими зигзагами молний видно, как все персонажи начинают бегать, наталкиваясь друг на друга, падать на землю, подыматься и вновь бежать как сумасшедшие. В какой-то момент огромная рука хватает за волосы сводню; волосы тотчас вспыхивают и встают огромным ореолом.
М о щ н ы й г о л о с г и г а н т а.
Сука, посмотри на своё тело! (Тело сводни предстаёт
абсолютно нагим и ужасным под корсажем с юбкой, которые
становятся прозрачными как стекло.)
С в о д н я. Оставь меня в покое, Господи. (Кусает Бога в запястье.)
Огромная струя крови хлещет на сцену, и при свете особенно яркой молнии
виден священник, юторый крестится.
Когда снова зажигается свет, все персонажи мертвы, и их трупы валяются по
всему полу. Остались только юноша и сводня, которые не сводят друг с друга
глаз. Сводня падает в объятия юноши.
С в о д н я (со вздохом, как бы в высшей точке любовного содрогания). Расскажи мне, как это с вами произошло.
Юноша закрывает лицо руками. Возвращается кормилица, держа под мышкой
девушку как некий свёрток. Девушка мертва. Кормилица роняет её на землю, где
та расплющивается, становясь плоской, как галета.
У кормилицы нет больше грудей. Грудь её совершенно плоская.
В эту минуту на сцену врывается Рыцарь; он бросается на кормилицу и яростно
трясёт её.
Р ы ц а р ь (страшным голосом). Куда
ты их дела? Отдай мне мой швейцарский сыр.
К о р м и л и ц а (игриво). Вот он. (Поднимает юбки.)
Юноша хочет убежать, но застывает на месте, как оцепеневшая кукла.
Ю н о ш а (как бы подвешен в воздухе,
говорит голосом чревовещателя). Не делай маме больно.
Р ы ц а р ь. Проклятая. (В ужасе закрывает лицо.)
Тут из-под юбок кормилицы появляется множество скорпионов, они начинают быстро размножаться в её влагалище, а последнее раздувается и лопается, становясь прозрачным; оно сверкает, как солнце. Юноша и сводня убегают, как будто их что-то жжёт.
Д е в у ш к а (поднимаясь, в ослеплении). Девственница! Ах, вот что он искал.
ЗАНАВЕС
Антонен Арто
Социальные принуждения отжили свой век.
Ничто: ни знание совершённой ошибки, ни вклад в национальную оборону — не
заставит человека обходиться без свободы. Идея тюрьмы, идея казармы —
сегодня разменная монета; эти чудовищности вас больше не удивляют. Бесчестие
заключено в самоуспокоенности тех, кто преодолел сложность с помощью
различных моральных и физических отречений (честность, болезнь, патриотизм).
Доверие необходимо однажды снова изъять из злоупотребления, которое
заключается, с одной стороны, в самом наличии подобных темниц, с другой — в
унижении, перемалывании, которым они подвергают тех, кто ускользает от них,
и тех, кого они туда заточают (и там есть, кажется, даже безумцы, которые
предпочитают самоубийству камеру или коммунальное общежитие), и, если мы
выскажем доверие, то никакое обсуждение, никакие отречения не будут
допустимы. Никогда ещё возможность покончить с этим не была так близка,
поэтому нам и не говорят об этой возможности. Пусть господа преступники
начинают: если и хочешь мира, готовься к войне; подобные предложения
прикрывают лишь низкую боязнь или самые лицемерные желания. Не побоимся
признаться, что мы ждём и призываем катастрофу. Катастрофу? Да будет так,
пока существует мир, где человек над человеком имеет права. Священный союз
ножей и пулемётов — как ещё можно призывать к этому дискредитированному
аргументу? Отдадим солдат и каторжников полям. Ваша свобода? Для врагов
свободы нет свободы. Мы не будем сообщниками каторжников.
Парламент проголосовал за урезанную амнистию; ещё один призыв уйдёт
следующей весной; в Англии целый город был не способен спасти человека. Мы
вовсе не изумились, узнав, что на Рождество в Америке приостановили казнь
многих заключённых, потому что у них был красивый голос. А теперь,
когда они спели, они могут умирать спокойно, проводить учения. В часовых
будках, на электрических стульях ждут агонизирующие: вы отправите их на
расстрел?
Господин Ректор!
В той тесной цистерне, что вы называете "мыслью", духовные лучи
загнивают, словно в соломе.
Довольно языковых игр, синтаксической вычурности, жонглирования
формулами, настало время найти великий Закон Сердца — Закон, который будет
не просто законом, тюрьмой, но гидом для Духа, потерявшегося в собственном
лабиринте. Там, вдали, куда никогда не могла бы дойти наука; там, где
ниточки разума разрываются об облака, существует этот лабиринт, центральная
точка, где сходятся все силы человеческого существа, последние прожилки
Духа. В этом лабиринте подвижных и всегда неуместных стен, вне любых
известных форм мысли, дух наш движется, выверяя самые тайные и спонтанные
свои движения — те, что обладают свойством откровения, как дуновение,
пришедшее извне, упавшее с неба.
Однако порода пророков угасла. Европа переходит в кристаллическое
состояние, медленно мумифицируется, перевязанная бинтами своих границ,
заводов, трибуналов, университетов. Замёрзший Дух раскалывается между
каменными половицами, которые затягиваются над ним. Ошибка заключена в ваших
заплесневелых системах, в вашей логике, по которой дважды два — четыре,
ошибка заключена в вас, о Ректоры, пойманные в сети силлогизмов. Вы
фабрикуете инженеров, судей, врачей, от которых ускользают настоящие тайны
тела, космические законы бытия; вы — ложные слепые учёные по ту сторону
земли, философы, претендующие перестроить Дух. Самый малый акт спонтанного
творения — это значительно более сложный и разоблачающий мир, чем какая бы
то ни было метафизика.
Оставьте же нас, Господа, вы всего лишь узурпаторы. По какому праву вы
претендуете направлять сознание, выписывать дипломы Духа?
Вы совершенно не разбираетесь в Духе, вам неведомы самые скрытые и
самые существенные его разветвления, — окаменевшие отпечатки, ведущие нас к
источникам нас самих, следы, которые нам удаётся иногда открывать в самых
тёмных залежах своих мозгов.
Во имя вашей же собственной логики мы говорим вам: Жизнь воняет,
Господа. Посмотрите на мгновенье на свои лица, оцените свою продукцию. Через
сито ваших дипломов проходит истощённая, потерянная молодость. Вы — рана
целого Мира, Господа, и тем лучше для этого мира, и пусть он поменьше думает
о голове человечества.
Мы твои верные слуги, о Великий Лама,
направь на нас твой свет, даруй нам такой язык, на каком наши заражённые
европейские мозги смогли бы понимать; и если нужно, то измени наш Дух,
сотвори дух, обращённый к совершенным вершинам, где Дух и Человек не будут
больше страдать.
Сделай Дух без привычек, дух, поистине застывший в Духе, или Дух с его
самыми чистыми привычками, твоими привычками, если они подходят для свободы.
Нас окружают заскорузлые папы, литераторы, критики, собаки, наш Дух сам
среди собак, которые думают на уровне земли, неисправимо в настоящем
времени.
Научи нас, Лама, материальному росту тела и освобождению от притяжения
земли.
Ибо ты хорошо знаешь, на какое прозрачно-чистое освобождение душ, на
какую свободу Духа в Духе — о единственно приемлемый Папа, о Папа истинного
Духа, — мы намекаем.
Ты смотришь, о Папа, глазами изнутри, на вершине внутреннего. Именно
изнутри я похож на тебя, я — давление, идея, губы, грёза, крик, отказ от
идеи, подвешенный между всеми формами и не надеющийся ни на что, кроме
ветра.
Исповедальня — не в тебе, о Папа, а в
нас; пойми это, и пустъ поймёт нас католическая церковь.
Во имя Родины, во имя Семьи готов продать души, свободно размалывать
тела.
Между нашей душой и телом довольно непройденных путей, достаточно
пространства, чтобы поставить твоих трясущихся священников и это скопление
совершенно случайных доктрин, которыми питаются все скопцы мирового
либерализма.
Твой Бог, католический и христианский, как и все остальные боги,
помыслил всё зло:
1. Ты положил его в свой карман.
2. Мы не знаем, что делать с твоими пушками, перстом указующим, грехом,
исповедальней, священнослужками, мы думаем о другой войне, о войне с тобой,
Папа, свинья.
У нас дух исповедуется духу.
Сверху донизу твоей римской мансарды торжествует ненависть к
непосредственным истинам души, к этому пламени, которое также сожжёт дух.
Мы не от мира сего. О Папа, запертый в этом мире, — ни земля, ни Бог не
говорят через тебя.
Мир — это пропасть души, Папа искривлённый, Папа, чуждый душе, оставь
нас плавать в наших телах, оставь наши души в наших душах, не надо нам
твоего ножа ясных очевидностей.
Антонен Арто
Вы не принадлежите телу и знаете, в
какой точке телесной траектории, её бессмысленного шатания, душа находит
абсолютный глагол, новое слово, внутреннюю землю; вы знаете, как мы
совершаем повороты в нашей мысли и как дух может спастись от самого себя; вы
внутренняя суть самих себя; ваш дух более не принадлежит плоти; здесь руки
не для того, чтобы только хватать; мозги способны видеть дальше леса крыш,
цветения фасадов, популяции колёс, жизнедеятельности огня и мрамора.
Продвигайся же вперёд, железный народ, вперёд, слова, написанные со
скоростью света, вперёд, друг к другу, детородные органы, с силой пушечных
ядер. Что изменится на дорогах души? В спазмах сердца, в неудовлетворённости
духа?
А поэтому бросьте в воду всех этих белых людишек с их маленькими
головами и их так хорошо управляемым духом. Нужно, чтобы эти собаки услышали
нас — мы не говорим об извечном человеческом зле. Наш дух страдает от других
нужд, а не тех, что связаны с жизнью. Мы страдаем от гниения разума.
Логическая Европа без конца дробит свой дух между молотами двух
терминов, то отпуская, то зажимая его. Но теперь удушение дошло до предела,
мы слишком долго паслись под ярмом. Дух больше самого себя, метаморфозы
жизни многообразны. Вслед за вами мы отрицаем прогресс, и мы призываем вас:
разрушайте наши дома.
Пусть наши писцы продолжают ещё некоторое время писать, журналисты —
сплетничать, критики — запинаться, сионисты — переплавляться в формы для
награбленного, политики — разглагольствовать и судейские убийцы — мирно
вынашивать свои злодеяния. Мы-то уж знаем, что такое жизнь. Наши писатели,
мыслители, доктора, простофили знают толк в том, как испортить жизнь. Пусть
все эти писцы пускают на нас слюни, пусть они пускают слюни по привычке или
мании, из-за кастрации духа, из-за невозможности уловить нюансы — эти
стекловидные лимоны, крутящиеся земли, где высоко поставленный дух человека
совершает непрерывный самообмен. Мы поймали наилучшую мысль. Приходите.
Спасайтесь от своих ларвов. Придумайте нам новые дома.
Господа!
Законы, обычаи предоставляют вам право измерять разум. И вы в
соответствии с вашим пониманием осуществляете эту высочайшую, грозную
юрисдикцию. Позвольте посмеяться над вами. Доверчивость цивилизованных
народов, учёных, правителей дарует психиатрии бог весть какие
сверхъестественные светочи. Мы не намереваемся обсуждать здесь ни ценности
вашей науки, ни сомнительное существование умственных болезней. Но на сто
предполагаемых патогенезов, где происходит смешение материи и духа, на сто
классификаций, из которых самые смутные — единственно приемлемые, сколько
благородных попыток приблизиться к миру мозга, где живёт столько ваших
заключённых? Ведь для вас грёзы так называемого больного, который находится
в плену своих образов, — всего лишь салат из слов.
Мы не удивимся, если вы окажетесь ниже той цели, для которой вообще
очень мало кто предназначен судьбой. Но мы выступаем против того, что люди в
меру своей ограниченности приписывают себе право исследовать область духа
методом бессрочного тюремного заключения.
И это чудовищное заточение! Известно — но известно недостаточно — что
лечебницы, вместо того чтобы быть лечебницами, являются страшными
застенками, где используются рабочие руки заключённых — бесплатные и
свободные; грубое обращение является здесь правилом; и вы вполне к этому
терпимы. Лечебница для душевнобольных — под прикрытием науки и правосудия —
сравнима с казармой, тюрьмой, каторгой.
Мы не будем поднимать здесь вопроса о насильственных заключениях в
сумасшедший дом, чтобы дать вам возможность не делать слишком простых
опровержений. Мы утверждаем, что большое число ваших пансионеров, абсолютно
безумных по официальному определению, являются насильственно заключёнными.
Мы не допускаем, чтобы кто-либо мешал естественному течению душевной
болезни, законной, логичной, как и любая последовательность идей или
человеческих поступков. Подавление антисоциальных реакций — химера, и это
неприемлемо в принципе. Все индивидуальные акты — антисоциальны. Безумные —
жертвы общественной диктатуры; во имя человеческой индивидуальности мы
требуем освободить этих каторжников чувственности, поскольку законы не
должны запирать всех думающих и действующих людей.
Не настаивая на абсолютно гениальных проявлениях со стороны отдельных
сумасшедших, насколько мы способны их оценить, мы утверждаем абсолютную
законность их концепции реальности и всех тех действий, которые из этого
следуют.
Можете ли вы вспомнить об этом завтра утром в час обхода больных, когда
вы будете общаться, не тратя слов, с этими людьми, перед которыми,
признайтесь в этом, у вас есть единственное преимущество — сила.
Жорж Рибемон-Дессень
В 1925 году осталось ещё немало
живописцев. Мы, было, понадеялись, что эта порода обречена на скорейшее
исчезновение; и в один прекрасный день мы позволили бы себе устроить
национальный заповедник, предназначенный для сохранения последних
экземпляров. Я уже представляю себе такой парк: множество деревьев с
мучительно-острыми ветвями, туманные озёра, всё плавает в сумерках цвета
охотничьего рожка, радуги вьются, как локоны, цветущие обнажённые женщины
или растленные светские дамы, просторные лужайки или мраморные лестницы,
украшенные, как сладостные руки, натюрморты, оберегаемые и стерилизуемые
современной наукой. И наши последние художники, предающиеся наслаждению; их
холят, как отборных жеребцов, и более того, их кормят пирогами и кистями,
как в действующей армии; глаза тупы, язык вывешивается наружу, но пальцы
испускают свет, точно ножки танцовщиц.
Увы, ничего подобного; живописцев действительно "паркуют", но лишь для
того, чтобы локализовать. Ещё немного, и их начнут кастрировать, чтобы
притормозить чрезмерную плодовитость.
Однако людей, способных заинтересоваться их работой, очень мало.
Впрочем, разве мы интересуемся вообще чем-нибудь в наше счастливое время? Мы
жаждем чуда, мы хотим, чтобы чудо просачивалось к нам отовсюду.
А некоторым людям вовсе не обязательно ждать чуда, оно представляется
им товаром с базара. Они запросто держат его в руках и отдают без выкрутас и
магических операций дервиша. Взгляните на простого и спокойного Ман Рея. А
ведь ему удалось открыть ставни удивительного мира. Если мы пристально
всмотримся в частицы этого мира, то с удивлением узнаем в них существа или
объекты из сновидений; они способны в одно и то же время быть то тем, то
другим, они изменяют свою сущность в тот самый миг, когда мы, кажется, уже
уловили её. Мы смотрим на Ман Рея, мы вопрошаем его фантазию, что умеет
смешивать эти таинственные силуэты с пространством, существующим вне
какого-либо нового гравитационного поля. Он улыбается в ответ, как
дрессировщик в клетке, где арктические ушастые тюлени кушают сардины из лап
тигра, зачарованного нежными взглядами белой мыши. Дрессировщик окажется в
животе тигра, прежде чем Ман Рей в своих фотографиях. Не ищите внутреннего
содержания. Однако Ман Рей всегда неразрывно связан со своими
произведениями. Какими таинственными связями? Он только расставил объекты,
находившиеся на расстоянии протянутой руки или мысли. Фотобумага сделала всё
остальное так же просто, как Ман Рей. Может показаться, что это элементарно
и каждый может достигнуть подобных результатов. Кто-то уже пытался его
имитировать, но различие сразу бросается в глаза.
Пока он занимается ежедневным воспроизведением физической красоты
Элегантных дам и Интеллектуалов в своих верных фотографиях, вы держите в
руках эти фрагменты неизвестного мира, который он кропотливо вылавливал на
удочку через окошко чувствительной бумаги. Бумага была чувствительна,
человек — нет, по крайней мере в том смысле, в каком вы это понимаете, ибо
вам неведома чудовищная чувствительность духа, аналогичная вибрации бумаги в
соседстве со светом, что играет на распаде материи; то ужасающее и короткое
покачивание, необходимое при выборе объектов, присутствует в послушании
фотобумаги.
Поэтому вы, клиенты чуда, будете удовлетворены, ибо Ман Рей совершает
чудеса лучше, чем Лурд или индийский факир. Вы сможете удовлетворить свой
аппетит — аппетит самого чуда, который таится в каждом из нас, и способность
излечивать рак сердца, тропические заросли на лице или выращивать банановое
дерево и баобаб в швейном напёрстке.
И действительно, в пространстве (мы должны упомянуть об этом, что бы
это ни означало), которое, как кажется, не пропускает звука, мы обнаруживаем
различные способы движения, предназначенные для того, чтобы перемещаться от
необычайных облаков, плывущих высоко по небу, к хрустальному сосуду. Мы
чувствуем, что его телом управляют совершенно иные измерения, потому оно
движется, в форме взгляда, вдоль спиралевидной рессоры, возникшей из
знакомых силуэтов. Всё становится плоским или расширяется, в то время как
привычные для нас годы протекают за секунду или секунда кристаллизуется в
полувечность.
Однако стоит упомянуть о ещё одном феномене. Ибо при виде произведений
Ман Рея, в которых палец живописца (в грязи из-под ногтей которого находятся
его глаза) ничего не сделал, ни с точки зрения техники, ни с точки зрения
чувства, мы получаем зрительное удовольствие благодаря пластическим
гармониям, столь дорогим любителям живописи! Какое совершенство! Какое
разнообразие! Какое богатство! Шарлатаны с палитрами, певцы с маслом — вот
кто обнажает жульничество вашей парадности! Вот ваши законы и вот ваш
кодекс, но они не подчиняются прихоти вздоха, моды на короткие волосы или
длинное платье. Они предоставлены самим себе в строгих зеркалах случайности
и идиллического сплетения абстракций в форме самих форм. В современном
изобразительном искусстве Ман Рей (и он умеет также скрыть в "настоящей
живописи" какую-нибудь шутливую проделку) — это тот человек, что сделал
против живописи больше всего. Но тем самым он выиграл для неё самое лучшее и
самое сложное: он вернул ей девственность.
И это вовсе не отдалило от неё почитателей.
Роже Витрак
Выражение "всё, что приходит в голову"
звучит теперь менее отрицательно, чем раньше. Сегодня мы допускаем, чтобы
автор под предлогом экспериментирования или для достижения высшей реальности
излагал без всякой критики все свои ощущения, все свои соображения и даже
все свои слабости. На повестке дня психологическая искренность. "Белая
страница" не волнует больше никого, лучшие поэтические произведения
последних лет были написаны автоматически. Однако кажется, что публика так и
не отдаёт себе отчёта в происшедшей лирической революции. Она ещё способна
удивляться анкетам о Боге и о самоубийстве, которые предлагают журналы
"Философия" и "Сюрреалистическая революция". Если публика удивляется, то
лишь потому, что она была невнимательна к предшествующим вопросникам. Журнал
"Литература" действительно несколько лет назад спрашивал: "Зачем вы пишете?"
— и несколько позже: "Что вы делаете, когда вы одни?" Если бы в ту эпоху
публика потрудилась исследовать причины деятельности этого журнала и
призналась себе в головокружительности одиночества, может быть, журнальная
хроника насчитала бы несколькими самоубийствами больше, и, возможно,
несколько простых душ встали бы на поросшую травой тропу, ведущую к церкви.
С точки зрения критической наиболее богатым разнообразными опытами был
тот период, который следовал за движением Дада. Тогда мы жили в тоске и
тревоге.
Андре Бретон и Филипп Супо в ту эпоху написали "Магнитные поля", и было
удивительно, что таким простым средством — игрой, при которой грёзы
записывались со скоростью самой грёзы, — им удалось реализовать в восемь
дней произведение, поэтическая чистота которого ни в чём не уступала самым
чистым произведениям. В своём недавнем "Манифесте сюрреализма" Андре Бретон
дал публике ключ от этих чудес, и движение, которое обещает по своей широте
перегнать романтизм, растёт день ото дня. Трудно представить, чем оно
станет. Однако можно уже сегодня сказать: то, что прежде считалось целью,
стало средством первоклассных поисков.
Среди попыток освобождения мысли весьма интересна та, что сделал г-н
Эдуард Дюжарден. "Лавры срублены" появились в 1887 году в "Ревю Индепендант".
Валери Ларбо, написавший предисловие к новому изданию книги Эдуарда
Дюжардена "Лавры срублены", обобщил историю того, что условились называть
"внутренним монологом". Он видел начало этой формы у Монтеня и завершение у
Джеймса Джойса, не преминув напомнить, что последний прекрасно знал "Лавры
срублены", где впервые Эдуард Дюжарден сумел противопоставить слово и
внутреннюю мысль в процессе её формирования.
Читая "Лавры срублены", нетрудно заметить, что автор писал всё, что
приходило ему в голову; и это последнее выражение должно было быть понято
так, как его понимает простой человек. То, что приходило в голову г-ну
Эдуарду Дюжардену, было не чем иным, как разговорным языком. Во всей книге
трудно вычленить хотя бы один образ. В ней, напротив, изобилуют размышления,
констатации и замечания. Создаётся впечатление, что это автор-актёр говорит
один, сам с собой, наподобие маньяка. Здесь лучше подошло бы определение не
"внутренний монолог", но "сололог". Но между сюрреализмом и этим так
называемым "внутренним монологом" существует глубокое различие, и для того
чтобы преодолеть путаницу, необходимо поставить под сомнение сами слова.
Слишком долго слова считались эксклюзивными знаками языка. И более того,
единственными помощниками речи. Если язык и речь имеют свои слова, то у
мысли должны быть свои. И лишь благодаря излишеству или по ошибке мысль
соглашается употреблять тот же самый словарь, и соображения удобства
требуют, чтобы она пользовалась синтаксисом. Но ей остаются, чтобы спасти
свою чудесную видимость и сохранить аллюр тайны, те образы, которые и
составляют её целостность.
Грёзу можно рассказать благодаря чудовищным архитектурным сооружениям,
которые не что иное, как слова, возвращённые в дикое состояние. При
пробуждении человек, восстанавливая то, что он запомнил за ночь, может
принимать эти слова обязательно вместе со всей их варварской логикой. Если
он набросает их на бумаге, принимая их без контроля, он напишет очень
красивые истории. Если он хранит их и ухаживает за ними в соответствии с их
симпатиями, как он это делает с предметами и с людьми в жизни, он вынесет из
них высшее поучение, которое можно будет легко заменить на любое другое.
Он сам удивится своим новым ощущениям. Он откроет символы своей грусти,
своих радостей, своего отчаяния. Он застанет себя ласкающим растения за их
отражения, камни, у которых он сможет определять сочность, животных, которых
он никогда не видел, но которые он сумеет описать с помощью лексики страсти.
Сюрреалистическая проза — не что иное, как отблески этой умственной
деятельности, где язычество составляет заговор в пользу целостности "я".
После достижения единства можно дозволить любые способы решения кризиса
беспокойства. Наверное, ухищрения медитации откроют людям какие-либо новые
способы эксплуатации, новые земли, золотоносные ручьи. О них скажут: они
чего-то достигли. Однако более уместным здесь будет сказать: на чём-то
остановились. Констатируем: открытия и изобретения имели своё начало
в простейшем образе. Может быть, именно образ, после того как его
культивировали, развили, продолжили и вульгаризировали, стал источником
состояния или славы. Есть о чём подумать арривистам. Но с другой стороны,
тот же образ, будучи культивирован, развит, продолжен, сам растрачивает
себя. Но это проблема для арривистов другого рода, тех, чьи познания не
ограничиваются эпидермием.
Благодаря сюрреализму стало ясно, что можно проникнуть значительно
глубже в мозг и сердце людей.
Зонд опущен, и многие поражены этим ударом. Конечно, было бы любопытно
услышать все внутренние монологи, но моя сюрреалистическая вера
позволит заранее предсказать, в чём заключено их единство.
Р. S. В момент написания этой статьи я не знал о "Декларации 27 января 1925", в которой сюрреалисты утверждали свою революционную веру. Безусловно, я к ним присоединяюсь, несмотря на то, что там нет моей подписи. Р. В.
Поль Элюар
Однажды в юности я раскрылся навстречу чистоте. Единственный взмах крыльев в небесах моей вечности, единственное биение сердца, моего влюблённого сердца, в уже завоёванной груди. И я больше не падал на землю.
Влюблённый в саму любовь. По правде говоря, свет ослеплял меня. Я хранил свет в самом себе, довольно света, чтобы видеть по ночам, целыми ночами, ночами напролёт.
Девы, какие они разные. Мне всегда грезится дева.
В школе она сидит передо мной, в чёрном фартуке. Когда она поворачивается спросить у меня решение задачки, невинность её глаз так смущает меня, что, сострадая моему волнению, она обнимает руками мою шею.
А теперь она покидает меня. Восходит на корабль. Мы почти чужие друг для друга, её юность повзрослела, и её поцелуи меня больше не поражают.
Или, когда она больна, я держу в своих руках её руку, до смерти, до своего пробуждения.
Я бегу быстрее, изо всех сил, на эти свидания, я не боюсь опоздать, но хочу успеть до того, как другие мысли украдут меня у себя самого.
Когда наступит конец мира, мы не узнаем ничего о нашей любви. 0на искала мои губы тихими и ласковыми движениями головы. В ту ночь я действительно поверил, что снова верну её дню.
И так всегда — то же признание, та же юность, те же чистые глаза, то же наивное движение рук на моей шее, та же ласка, то же откровение.
Но никогда — та же женщина.
Карты предсказали мне, что я встречу её в жизни, так и не узнав её.
Влюблённый в любовь.
Мишель Лейрис
Я не представляю себе, чем может быть
поэзия, если не проявлением сущностного бунта человека против абсурдных
законов универсума, в который он заброшен, разумеется, против воли. Одни
будут истощать себя горькими жалобами на тоскливую жизнь, но это ещё не
настоящий бунт: гложущая меланхолия не возбуждает в них желания разрушать.
Иные попытаются систематически разрушать в своей душе все понятия, которые
способны были бы привести к действию: любое действие, по их мнению, требует
хотя бы минимального оптимизма, прагматизма, благодаря которому мы судим о
вещи по её результатам. Всё это, как и всё прочее, вызывает необходимость
бунта, ибо уступка означала бы приятие. Уступающие навечно останутся
в бездействии, они печальные школяры, отданные в жертву комарам и всем
насекомым компромисса, заранее побеждённые на всю оставшуюся жизнь
всевозможными Вилами Кадиума; и всё потому, что они не сумели осознать, что
необходимо выбрать минимальное поражение (если это можно назвать
поражением); оно менее постыдно, ибо способно породить максимум
разрушения под угрозой подвергнуться другим, и более суровым, разрушениям.
Некоторое время человек будет верить, что поэзия — это самое
реальное выражение бунта. Он считает, что сможет отстраниться от
материального мира, оставаясь с ним связанным только смутной магической
тканью слов, нарушая привычные отношения, заставляя двигаться одни и те же
слова, конструируя новый мир подчас по образу своему... Он думает, что ему
удалось разбить все цепи, отбросить все формы приятия. Он забывает только,
что его система по-прежнему подчиняется условностям языка (самой подавляющей
условности), а материальный мир всегда остаётся здесь, в многоообразной
роскоши отбросов.
Однако обычно это ослепление длится не долго. Поэт ссорится с идеями,
фразы и слова тотчас же показывают ему, сколь тяжелы были взятые
обязательства и насколько смехотворным и нереальным было то воздействие,
которое он пытался оказать на универсум посредством слов. Поэзии окажется
недостаточно, чтобы насытить его бунт, тогда он повернётся к миру и будет
искать, как упразднить его ненавистные законы.
Если он живёт в такую эпоху или в такой стране, где верят ещё в силу
магии, он станет колдуном или некромантом, он подпишет союз с адскими
силами, чтобы навязать земному миру своё господство. Если, напротив,
"просветители" его времени помешают ему всерьёз воспользоваться этими
истоками, он займётся рациональным составлением плана своей тюрьмы, стремясь
понять, в какой степени он может стать её хозяином.
Сначала он поймёт, что изменить физические законы невозможно. Прежде
галлюцинации могли бы дать ему иллюзию метаморфоз, но теперь он хорошо
знает, что после пробуждения остаётся и сила тяжести, и биение его сердца, и
буйство крови. Он захочет отыграться на второй серии законов, рабом которых
он является: на законах общества. Безмерное давление восстановит его против
дурацких законов, придуманных людьми для принуждения, он станет ликантропом,
анархистом, бунтовщиком против всех социальных отношений, которые навязывают
его личности. Он вообразит себе, что может потрясти это иго и разрушить его,
— ещё одна утопия, ибо законы неизбежно разрушат его самого и он не сможет
подорвать их твердыни.
Понимая, что индивидуальный бунт приведёт лишь к саморазрушению,
человек отказывается от него, ничего не изменив, то есть ничего не разрушив
в мире. И тогда он обращается к социальной революции, единственному
эффективному пути осуществления своего бунта, единственному средству
передвинуть ценности. Он поймёт, в каком мировом катаклизме он будет
участвовать, если станет на сторону униженного большинства в неизбежной
борьбе против меньшинства поработителей. Пусть с точки зрения абсолюта
подобное потрясение не так уж и значительно, но по крайней мере одному
человеку это уже много, и этого, разумеется, достаточно для конкретизации
чувства бунта: из неясного и абстрактного это чувство стало точным,
ощутимым, и это уже способно добавить хотя бы ещё одну морщинку на лице
универсума.
Только Революция может освободить нас от гнусности мёртвого груза
пережитков. Это свободно выльется в тотальное обновление отношений человека
к человеку. Мотивы более чем достаточные, я полагаю, для того, чтобы каждый
истинный поэт следовал им душой и телом.
Всё это, возможно, не имеет отношения к книге Жан-Мари Карре о жизни
Рембо.
Артюр Рембо, "французский поэт и путешественник", — читаем в словаре
Ларусс. Я добавляю: и революционер...
Вся истинная поэзия неотделима от Революции.
Рене Кревель
"Надежда — не что иное, как недоверие
человека к предвидениям своего духа", — утверждает Поль Валери в первом
письме о кризисе духа. И само это недоверие — явление не простое. У каждого
человека за душой всегда есть что-то, а ясные резоны его разума превращаются
в смутные нагромождения: бесчисленные разновидности этих нагромождений
прекрасно уживаются с монументальностью, хотя на фронтоне выставлены доводы
логики и традиции. Поэтому личностный протест, происходящий от надежды, с
присущими ей импульсивностью и крайней наивностью, не способен был бы
расписать даже некоторые из его сложных фасадов. Впрочем, никто и не думает
сердиться на прекрасных животных с весьма богатой родословной и необъяснимым
благородством тела за то, что их спонтанное противопоставление рационального
телесному не мешает им спонтанно преодолевать ловушки чувств и каверзы ума.
Абсолютно неприемлемо другое — пустословье и фальшивые силлогизмы анемичных
больных, глупцов и педантов, которые с большим треском отстаивают
цивилизацию, упрямо твердят о нравственности, а на деле довольствуются
принципами с двойным дном, чтобы сколотить себе счастье — если не
героическое, то, во всяком случае, пристойное счастье, которое никогда не
могло бы пробиться сквозь их существо, поскольку они даже не думали искать
его в себе. Пусть они рассуждают о многочисленных градациях своего
жульничества и своей совести, — нас не обмануть, и мы будем разоблачать их
враньё, беззастенчивое или скрытое, как настоящее преступление против духа.
Разумеется, стремление к комфорту вполне законно, если речь идёт о
мелких проблемах — оборудование ванной комнаты или установка калорифера; но
мы не можем согласиться с теми, кто, осуществляя подобные желания, ссылается
на высшие побуждения. Те, кто в поисках благоприятного о себе мнения
пытается приукрасить пышными определениями свои оправдательные речи pro
domo, всегда доходят, по меньшей мере, до бессвязной галиматьи. Взять, к
примеру, поклонение идолу науки: лицемернейшая игра слов заставляла массы
поверить в иллюзию духовного прогресса, однако из виду вовсе не упускались
утилитарные цели, никто не забывал и о частных выгодах, которые можно
извлечь из новых открытий. На самом же деле эти люди видели только железную
маску прирученной Валькирии и никель её брони, но ни один из её поклонников
не знал ни её лица, ни пупка неправильной формы на мягком животе. Хотя все
упрямо делают вид, что верят в способность Богини Науки открывать тайны
человека, сама она не менее сомнительна и мутна, чем кинкеты, которыми
фокусники освещают свои трюки в ярмарочных балаганах. Тогда наступает час
смирения перед жалкими выдумками. Произведения эгоизма стремятся выдать себя
за невинные цветы мудрости. Время засухи. Царство эрзаца. До тех пор, пока
не придёт спасительная Революция, которая непременно покончит с этим
ничтожно лживым спектаклем. А пока человеческие создания, никогда не
ощущавшие дыхания свободы (хотя они всегда были на пути к ней, ибо их не
устраивали жалкие условия существования, когда они подвергались ежедневным
ударам идиотской судьбы, прихотливой игры случая, испытывали взлёты и
падения), должны ожесточиться, чтобы не разочароваться окончательно в своих
возможностях и стремлениях. Именно в такую минуту они ищут утешения в
единении любой ценой. Они сбрасывают в общую кучу крохи сознания, снимают
стружку с обрубков индивидуальностей. Всё это приправляется соусом из пыли
традиций, и теперь дерзайте — вот наш маленький синтез. Человек ограничивает
своё существование, свою власть, чтобы обрести уверенность в себе, забыть о
тайне и о бесконечности, защиту которой так прекрасно нам возвестил Луи
Арагон. На самом деле видимое подчинение фактам служило всегда лишь
предлогом для скрытой фортификации. Мысль, которая в течение веков
объяснялась с точки зрения непосредственной пользы, сделала личность косной
и тупой. Человек боялся утомить ноги и потерять время, но не сохранил ни
того, ни другого. Ещё до своего рождения дух считался выражением чего-то
индивидуального. А Разум был заступом, которым дух должен был выдалбливать
свою нишу в том, что беззастенчиво называют культурой, цивилизацией. Однако
ни один собственник, при всей своей мелочности, не способен позабыть
величественные проспекты грёзы. И в стенах обязательных школ, казарм, зданий
парламента они хотели заковать в цепи порывы духа. Биржи, Палаты депутатов
камуфлировались под греческие храмы, тяжёлые и фальшиво классические складки
псевдоантичности скрывали солнце — сияние серы и любви, которое однажды в
какой-нибудь прекрасный вечер взорвётся — там, далеко-далеко за пределами
горизонта и привычек.
Тяжёлые камни придавили землю, и ни один гейзер не
может пробиться сквозь неё. Человек, скрывая свои привычки и собственную
посредственность за льстивыми понятиями сознания, реальности; надеясь
отлично прожить среди отговорок и обманов; спокойный, как крыса в своём
классическом сыре, и, подобно этой крысе, решивший существовать за счёт
него, с лёгким сердцем отказывался от высшей справедливости, от всякого
величия.
Благодаря знаменитому "Я мыслю, значит, я существую", основанию
индивидуалистического франкмасонства, в жалчайших предместьях мышления
тысячами расплодились гнусные халупы, где люди надеялись просто забыть
мерцающее беспокойство звёзд. Раздобревшие коты-Раминагробисы, сомневающиеся
во всём и всех, кроме самих себя. Но пусть только какой-нибудь философ
позволит себе наглость трактовать воображение как разновидность сумасшествия
— сейчас никому, кто претендует обратить воображение в рабство, не сделать
этого безнаказанно. Пробуждение не ограничится простым вербальным взрывом, и
истинно романтическое лицо лишится навсегда своей напыщенной шевелюры и
вызывающе красного галстука. Паузы, несколько жестов, отдельные желания и
множество их возможных реализаций докажут убедительнее, чем жилет Теофиля
Готье, на что способен человек. Какой-нибудь Жюльен Сорель, например, не
обретший спасения в холодном честолюбии, своим преступлением показывает нам,
как обыкновенное событие из хроники происшествий становится фактом
лирическим. Впрочем, стендалевский герой, с его отчаянной готовностью и
неумением довольствоваться плоскими человеческими решениями, является
типичным примером человека, которого повседневные крушения навсегда
отвратили от оппортунистических решений. В эпоху Жюльена Сореля, наверное,
ещё не вошло в моду говорить о "незаинтересованном акте", но благодаря этому
примеру мы знаем: тот, кто стремится к самоутверждению, не может отвратить
свои мысли от смерти, уйти от чувств или жестов, связанных со смертью.
Понятие "незаинтересованного акта" было выработано в "Подземельях Ватикана",
в сцене, где Лафкадио убивает старого провинциала. Заметим, впрочем, что
этот поступок, для большинства представляющийся незаинтересованным, имеет
хотя бы тот интерес, что создаёт иллюзию отсутствия какой-либо значимости
этого интереса. Иначе говоря, многие откроют и воспоют этот акт, обладающий
совершенно особой сутью; едва почувствовав некое душевное смятение, они
примут своё невежество и невежество других за безразличие, на которое они на
самом деле не способны. Так, например, выражение "незаинтересованный акт"
применяли по поводу дела Лоеба и Леопольда: убийство мальчика двумя
студентами из лучших семей Чикаго. Однако у этого преступления были вполне
заинтересованные мотивы, малейшие детали были даже зафиксированы в контракте
— вплоть до компенсации, предоставленной тому из двух преступников, который
помогал другому получать удовольствие от маленького трупа. Никогда ещё
действие не имело таких определённых причин. Лишь элементарное незнание
заставило некоторых людей, описывавших это событие, так грубо ошибаться.
Во всяком случае, незаинтересованный акт в своём идеальном виде мог бы
служить соединительным мостом от ничтожной амбиции к свободе, от
относительного к абсолютному. Простой человеческий жест обретает свой смысл
и основание, если он выталкивает существо, служащее ему исполнителем, за
пределы повседневной реальности. И поэтому ничто не может поставить более
точный диагноз, будь это сердце или поясница, нежели вопрос, поставленный
"Сюрреалистической революцией" в её первой анкете:
"Самоубийство — решение ли это?"
Одного только вопроса достаточно, чтобы доказать: если человек
опасается предсказаний своего духа, дух в конце концов разбивает свои путы,
пускается в галоп и скачет поверх малых барьеров хитростей, стоящих на его
пути. Самые честные, единственно честные ответы на все уловки и так
называемые государственные соображения оказываются на деле самыми
деморализующими вопросами. Пусть личность действует во имя грубого счастья,
пусть она формирует себя с помощью науки, рассудка — оплота эгоизма, но что
может она противопоставить простой фразе поэта:
"Пахотная земля сновиденья! К чему здесь строить?"
Вместе с этим поэтом, Сен-Жон Персом, явившимся из стран Восходящего
солнца, люди, преданные духу и отвергающие анекдотические погремушки,
которыми их пытаются развлекать, повторяют:
"При чистых идеях утра что остаётся нам от сновидения, нашего
прародителя?"
Тоскливые звёзды уже повисли на банальном ночном небе. Индивидуум
ощущает, что взрывается под своей земной кожей. Мускулы плохо держатся на
скелете. Его череп уже не ларец для мозга. И он уверен в этом, как в
ощущении голода, жажды, лихорадки. Дрожь отрицательных уверенностей
пробегает вдоль всего его костного мозга, и граф Германн Кайзерлинг так же
доходчиво, как книга по истории естествознания, учит нас, детей, что у
человека две ноги, две руки, две ладони, две ступни, одно туловище, одна
голова, одна шея. Он пишет: "Никогда во всей своей жизни я не ощущал, что я
совпадаю с моей собственной персоной. Я всегда чувствовал, что личность
обладает сущностной ценностью, что моё "я" испытывает потрясения, вызванные
моей наружностью, моими состояниями, последовательностью моих действий —
всем тем, что я ощущаю и что со мной происходит".
Какие резоны заставили бы человека после подобной констатации
ограничиваться рамками маленькой перепаханной реальности? Возможно,
несогласованность тела и духа — уже некое достижение, гарантия ценностей,
неподвластных подкупу. Напротив, мы знаем, к какому гниению приговаривала
себя личность, не удовлетворённая своей земной сутью, однако неспособная
определить ей какую-либо относительную роль. Такая личность не только не
ограничивала пределы своей земной сути, но заставляла себя и других верить в
иллюзию счастья или достойность повседневности; заглушая крики сомнения, она
распевала "Марсельезу" своей посредственности, обшивала себя галунами
этической, эстетической и другой лжи. И самое изумительное в этих
превратностях то, что идолопоклонники поверхностного любой ценой готовили
шабаш, возбуждённо горланили поношения, твердили о спасении духа и,
апеллируя к разуму, делали всё для его разложения.
Когда бы это мошенничество встретило презрение и нашлись бы умные люди,
объявившие вслух, что они отказываются от таких забав и не примут ничего,
кроме того, что уже показывало себя во всей красе, то разве стоило бы тогда
действительно бить тревогу во имя духа и говорить о кризисе? Однако уже не
осталось иллюзий относительно этого легкомыслия, и книги, журналы, газеты
давно разоблачают его опасность. Культ внешнего, технические занятия,
конечно, были менее утомительны, и мы прекрасно знаем, как, по примеру
разных животных, умеющих засыпать, глядя в одну точку, не только реалисты,
но и эстеты, у которых глаза предназначены для поз, уши — для слов, внимание
— для вещей, отдавались этому соблазну лишь из неясного, но реального
желания спать. Итак, предприятие общественного спасения, в качестве которого
явилось нам Дада, в последние годы совершенно верно и довольно быстро дало
оценку старым формальным идолам. В одном из манифестов движения Дада,
зачитанном в феврале 1920 года в Салоне Независимых, в Клубе Предместья, в
Университете Сент-Антуанского предместья и опубликованном в журнале
"Литература", Луи Арагон после обвинительной речи, энергично отвергая старьё
условностей, протестуя против их засилья, восклицал: "Может быть, пора
покончить с этим идиотизмом. Довольно, больше ничего, ничего, ничего,
ничего, ничего". И добавлял: "Таким образом, мы надеемся, что новое будет
менее эгоистично, менее меркантильно, менее тупо, гораздо менее гротескно".
Какой же честный человек предпочтёт такому бунту маленькие выгодные
комбинации? Пробуждение — идёт ли речь о пробуждении для повседневной жизни
или об ином пробуждении — пробуждении в ночи, у врат сна и чуда — никогда не
происходит без борьбы. В беспокойных видениях на пороге утра и снов — вот
где мы действительно обнаруживаем остатки нашего величия. Именно здесь, а не
в мирной коме, бесконечном послеобеденном вздоре. Андре Бретон констатирует
со второй страницы "Манифеста сюрреализма": "Обратить в рабство воображение,
даже если оно пойдёт туда за тем, что грубо называют счастьем, — это значит
избавиться от всего, что является поистине высшей справедливостью. Одно
только воображение даёт мне отчёт о будущем; этого достаточно, чтобы хоть
немного приподнять завесу невыносимого запрета, этого достаточно также,
чтобы я отдался ему полностью, не боясь ошибиться. Словно можно сделать ещё
большую ошибку. У какого предела воображение становится дурным и где
кончается запас прочности духа? Быть может, именно блуждание духа и есть
первое условие для возникновения добра?"
Конечно, эта возможность блуждать неотделима от страха битв и боли. В
великом рискованном предприятии, коим является всякая борьба духа во имя
духа, человек, если он желает быть достойным поборником свободы, должен
прежде всего отказаться от ходульности, коварства, надуманных поз,
наигранного очарования. Когда 13 мая 1921 года Дада собрал революционный
трибунал, чтобы судить Мориса Барреса, Андре Бретон, читая обвинительный
акт, в частности, объявил: "Пользоваться влиянием, которое нам подарили
удачные поэтические находки, и соблазном, который не является соблазном
духа, чтобы заставить слепо уверовать в его выводы о том, что уже не
является уделом его исключительных способностей, — это настоящее
жульничество".
Вот простой и окончательный ответ всем тем, кто,
демонстрируя свою смелость, выбирал для убедительности кокарды с декором и
цветами, вышедшими из употребления, восхвалял орхидею Оскара Уайльда и болт
в петлице Пикабиа. Нам ни к чему спектральное разложение фальшиво
изысканного фиолетового цвета, которым принуждал себя соблазняться Баррес в
сумерках своего отрочества. Заранее приговорённый к невозможности достичь
опасного ядра, он был словно загнан в угол собственным зловонием, вдыхая
пергаментными ноздрями миазмы западных болот. От безграничной Камарги он не
помнит ничего, кроме отдельных развалин какого-то города, театрального и
скупого, жалкие декорации которого из мягкого картона не мог оживить даже
ветер. А для смерти он собрал полный набор косметических символов, чтобы
нарумянить её тайну; его руки, из которых не выходило ни единого пучка
эктоплазмы, маленькими, окостенелыми, вздрагивающими жестами распределяли по
букетам с душком цветы, которые удалось выкрасть у человеческого загнивания.
Со свойственным ему патологическим эгоизмом, стремясь всему придать важный
вид. По правде, вся эта пышность чёрной мессы не смогла произвести чуда, и
многочисленные ритуальные действа, таинственные места, искусственные
существа — всего этого оказалось достаточно, чтобы доказать, насколько он
был предателем самого себя. Себя, осмеливавшегося говорить о "Культе Я", в
то время как его дух, недостаточный для великих замыслов, воистину испытывал
нужду в ослике, садике, маленькой девочке.
И разумеется, не без умысла он выбрал этот замкнутый город, не
способный существовать сам по себе, приговорённый быть дряхлой кокетливой
марионеткой. Поэтому вовсе не стоит дожидаться собрания Палаты депутатов,
Лиги патриотов, чтобы судить человека и отгородить его фальшивыми камнями,
похожими на крепостные стены Эг-Морта. Итак, Баррес влиял на словесность, но
не на дух. Влияние Барреса — несложный секрет. Его фразы легко вылущиваются.
Блестящая техника, без сомнения, но техника того же порядка, в целом, как
техника игроков в бильярд. Он мастер словесной игры карамболем. Но что
дальше? Перед вами, разумеется, то самое мошенничество, которое разоблачал
Андре Бретон, — мошенничество, которое, впрочем, не является чем-то
исключительным, поскольку тот же Бретон в своей брошюре более чем пятилетней
давности, но опубликованной недавно под названием "Необходимая самооборона",
уточняет: "Речь идёт не о том, чтобы разбудить слова и подчинить их учёной
манипуляции, заставляя их служить созданию более или менее интересного
стиля. Утверждать, что слова являются первичной материей стиля, едва ли
более изобретательно, чем представлять буквы как базу алфавита. Слова на
самом деле — совершенно иное, и, возможно, слова — это всё. Проявим же
любезную снисходительность к людям, которые смогли найти им только
литературное употребление и льстят себя надеждой получить с их помощью
артистическое признание, после чего следует признание общественное". И,
разумеется, несмотря на возможность подвергать литературные употребления
грубому насилию, они останутся лишь пустым кривлянием. Сколько будет весить
пышно разодетая фраза по сравнению с голой мыслью, гениальной стенограммой,
как, например, в "Поре в Аду". Свободные от волочащихся одежд, от
претенциозных манто образы, идеи наших самых уважаемых стилистов оказываются
беднее Иова. Это ремесло портного, искусство сшивать остатки. Но кто посмеет
хвалиться, что постиг приёмы Бодлера, Лотреамона, Рембо. Жёсткие,
обнажённые, революционные, они ломают рамки, посылают к чёрту всякие
ограничения, сторожевые вышки фальшивых крепостных стен, сама память о них
не поддаётся влиянию той или иной партии, и потому лишь взрыв смеха может
быть ответом благонамеренному писателю на название "Наш Бодлер", которым,
серьёзный как Арбатан, он решился окрестить книгу об авторе "Цветов зла". В
противоположность нашим низкопоклонным официозным представителям, тайным или
явным, я вспоминаю ещё и юмор Жарри, белые поэмы на белом Поля Элюара. Яйцо
ещё никогда не обрастало заново скорлупой. Баррес, Эг-Морт пытались
соорудить себе скорлупу. Чтобы вызвать о себе хорошее мнение, они дошли до
ничтожного понятия индивидуализма. Даже не удивительно, когда, несмотря на
столько лирических усилий, от депутата рынка Алль воняет старым шерстяным
носком. Его эгоизм ни вблизи, ни издалека не сравним с идеальным
субъективизмом; эгоизм — враг духа, ибо он относится ко всему, что с
какой-то крестьянской пронырливостью считает себя понятием реальности; он
слишком большая кокетка, чтобы заигрывать с тем, чего он боится больше всего
на свете. Нам превосходно видно, какую неоценимую помощь приносят ему
аксессуары — война, родина, Береника и, в последнюю очередь, "Сад на
Оронте", между заседаниями в Палате депутатов, подобно тому как иные
предаются радостям на улице Мучеников, с той разницей, что на улице
Мучеников разгуливают гиперемия, смерть, в то время как в "Саду на Оронте"
прекрасно подстриженные деревья, манекены из бархата и шёлка не сделали
никогда никому ничего дурного и были бы в большом замешательстве, если бы
могли это сделать.
Баррес — классический пример сопротивления духу, лукавства, однако
избранные им символы (Венеция, Толедо, Камарга) не несут ответственности за
неловкость его произведений и неуместные сопоставления. Он — преступник;
сомнение ему не чуждо, но он не перестаёт тем не менее прибегать к помощи
ничтожных призраков. Преступлением против духа и отступничеством от самого
дорогого и ценного является превращение мысли в искусство услаждения,
подобно мандолине в руках дочки консьержки, и в конце концов он сам
чувствует себя как вор, которого обокрали, обманули, он в тоске, оттого что
и его одурачили. Тем хуже, ибо для того чтобы делать великие вещи, надо быть
очень наивным, и без невинности невозможно ничто достойное восхищения; без
той невинности, что заставила Робера Десноса рассказать нам о художнике
Миро, чьи картины только что открылись нам во всей свободе, революционности.
И никто не мог удержаться, чтобы не увлечься ими всерьёз: "Миро —
благословенный художник". И да будут благословенны все те, кто осмелился
разорвать круг выгодного загнивания. Но как оценивать глупый и дурной
романтизм, ставящий Рембо, поэта благословенного в истинном смысле этого
слова, в ряды поэтов проклятых. По правде говоря, только трусость могла
вынудить некоторых судей говорить в таких выражениях о разрушительной
свободе и о её чудесах.
Несогласие с окружающим миром — не проклятие, но благословение духа
(ещё немного, и можно было бы говорить о благодати), ибо если бы ничто из
внешних проявлений, или законов, которые придумали сами люди, не возмущало
дух, то он сливался бы с этими внешними проявлениями, с этими законами и не
претендовал бы на собственную жизнь. Всякая поэзия, всякая интеллектуальная,
моральная жизнь есть революция, ибо перед человеком всегда стоит проблема
разбить цепи, которые приковывают его к твердыне условности. Не пристало
разглагольствовать о магах. Вспомним Лотреамона: "Поэзия должна делаться
всеми, а не одним". Комментируя эту фразу, Поль Элюар пишет: "Сила поэзии
будет действовать на людей очистительно. Все башни из слоновой кости будут
разрушены, все слова станут священными, и, наконец ниспровергнув реальность,
человек может лишь закрыть глаза, чтобы распахнулись двери в чудесное".
Мы раз и навсегда осуждаем приятные рамки, развлечения и удовольствия,
потому что сознание рискует увидеть за ними скрытую античеловечность. Как
только мы откажемся от корыстного использования благоприятных обстоятельств
и фактов, мы обретём вполне справедливое право разоблачать всю злосчастную
видимость разумных доводов против духа.
Пусть Поль Валери лирически заклинает необычайные судороги, пробегающие
по хребту Европы, известную всем тревогу, переходящую из реальности в кошмар
и из кошмара снова в реальность, пусть он произносит надгробную речь по
Лузитании и запевает треносы. Ни удивительная дрожь, ни известные продукты
тревоги, ни плачевная история Лузитании, ни одно из зрелищ, которыми так
легко нас разжалобить и которые, при всей их ужасной прискорбности,
пребывают всё-таки в области относительного и потому не могут привлекаться
как доказательства или причины кризиса духа.
Кризис духа? Очень удобный символ, и, поскольку его подтекст
перегружен, он никогда не пробуждает нашего сомнения. Смутная живописность
подобной формулы, впрочем, могла гарантировать лишь дешёвый успех, и
квазиуниверсальное тщеславие возрадуется от этих слов, в которых его
претензиям мягко польстили, выдержав известные испытания в нашей частице
времени и пространства. Для того чтобы цивилизация познала, что она смертна,
были необходимы все трагедии, перечисленные Полем Валери, однако эта
цивилизация никогда не сомневалась в законности своей резонёрской гордыни —
она просто наслаждалась, не подвергаясь опасности, маленьким повседневным
благополучием и, кажется, не была обязана этим мирным годам ничем, кроме как
недостатком элементарного ясновидения. Когда страус, закрывающий глаза,
уверен, что его не видят, то этого нельзя исправить, как и дурной запах изо
рта. Не стоит умиляться при виде этих мелких утраченных гарантий.
Впрочем, если допустить, что Запад, скованный
резонами своего разума, был настолько близорук, чтобы перепутать
представления о времени и пространстве с понятиями совершенного,
универсального, вечного — наивульгарнейшими идеями, то те несчастья, которые
пробудили его от этого блаженства, знаменуя удовлетворительный период
относительного реализма, эти несчастья, возможно, заслуживают того, чтобы их
приняли за признаки кризиса духа. Эти испытания пошли на пользу в том
смысле, что именно здесь мы нашли аргументы против соблазнов немоты и
пошлости, рекомендованных разумом. Пусть дух пребывает в противоречии с
внешним миром, пусть он отказывается идти вслед за предметами, фактами, не
умеет и даже отказывается извлекать из них пользу, всё же это вовсе не может
служить доказательством его плохого состояния. Исследуя реалистическую точку
зрения, Андре Бретон в "Манифесте сюрреализма" констатирует: "Реалистическая
точка зрения, вдохновлённая позитивизмом от Св. Фомы до Анатоля Франса,
по-моему, враждебна любому умственному развитию. Мне она ненавистна, ибо она
сама сделана из ненависти и плоской самодостаточности. Именно она порождает
сегодня смехотворные книги, оскорбительные пьесы. Она без конца заявляет о
себе в газетах и, угождая самым низменным вкусам, обрекает на неудачу науку,
искусство; ясность, граничащая с глупостью, — свинство. И лучшие умы
способствуют этому. Закон экономии усилий в конце концов навязывает себя им,
как и всем прочим. Приятным следствием из подобного положения вещей в
литературе, например, оказывается изобилие романов. Каждый участвует в этом
предприятии со своими маленькими наблюдениями. В целях очищения Поль Валери
предлагал недавно собрать в один том как можно большее число романных
зачинов, на нездоровость которых он так надеялся. Самые знаменитые авторы
внесли туда свою лепту".
И несколькими строками ниже, цитируя описание комнаты из "Преступления
и наказания" Достоевского, Бретон заключает: "Когда дух позволяет себе, даже
случайно, подобные мотивы, я не могу этого одобрить". Многие художники не
только позволяли себе подобные мотивы, но и специально разрабатывали, они не
замечали, что из-за этой их ошибки существенное проходило мимо них. По
"Преступлению и наказанию", например, был снят фильм, где мы могли созерцать
дома, сваленные в кучу по милости какого-то несуразного воображения, не
оставившего в произведении ничего способного нас взволновать. Ведь внешний
эстетизм — не единственная опасность, и мы могли бы считать "дурной шуткой,
которую сыграл с нами Достоевский", его неосознанную потребность
сентиментальной эксцентричности, желание демонстрировать дурные наклонности
присказкой: "И мы тоже можем делать подлости". Эти мрачные фарсы не имеют
ничего общего с чудесным, с которым их силились отождествить, с чудесным,
литературное, художественное воплощение которого преподносит нам сегодня
весьма странные примеры. Я бы назвал "дурной шуткой Лафкадио" более или
менее сознательные комбинации деяний, которые нам предлагают как модели
незаинтересованного акта, хотя, впрочем, в случае как с Жидом, так и с
Достоевским мы не имели бы права упрекать этих авторов во влиянии, которое
им приписывают слишком торопливые читатели. Никто не смог бы измерить силу,
свет, скорость реального воздействия их произведений. То же самое можно
сказать о Стендале, который превратил банальный эпизод из хроники
происшествий в лирический факт. Криминальные анналы, сообщившие ему то, что
критики, с их официозной прямотой, именуют сюжетом, объективно не несли в
своём содержании тех позитивных или вечных ценностей, изложение которых
развернулось у Стендаля в потрясающую последовательность повествований,
мыслей и образов. Следовательно, незачем терпеть такие выражения, как
объективный разум. Бессмысленность подобной формулировки слишком ощутима
и даже, несмотря на её серую униженность, невозможно допустить, чтобы
вышеуказанный разум способен был сочетаться с материей, следовать контурам
вещей. Таким образом, среди прочих благодеяний книга наподобие "Манифеста
сюрреализма" показывает нам, насколько твёрдо ядро несправедливости в
человеке, насколько он сам не достоин свободы, раз он позволяет запереть
себя легко, без сопротивления, посреди реалистического хлама. Но наконец-то
мы сможем дать истинную оценку резонам самодовольных сторожей этого хлама,
восхваляющих свои трущобы, и мы уже можем утверждать, что кризис духа
совершенно не зависит от колебаний большего или меньшего материального
процветания, он вовсе не указывает на состояние ума, восставшего против
блефа произвольно разумного мира, но, напротив, в определённые минуты, годы,
века дух верит в свою мощь, даже когда он ковыляет на реалистических
костылях.
В остальном, как замечает Арагон в "Волне грёз": "Нужно было, чтобы
идея сюрреальности коснулась человеческого сознания, некоторых
исключительных школ и событий накопившихся веков.
Посмотрим, где она возникла. Это произошло во время специфических
поисков решения одной поэтической задачи; так сказать, моральный стержень
этой проблемы проявился в 1919 году, когда Андре Бретон, намереваясь уловить
механизмы сна, обнаружил стихию вдохновения на пороге сна.
Сначала это открытие имело значение только для него и для Филиппа Супо,
который вместе с ним стал предаваться первым сюрреалистическим опытам именно
в этой области. Они были поражены прежде всего неведомой дотоле властью,
несравненной лёгкостью, свободой духа, возникновением невиданных ранее
образов и сверхъестественным тоном своего письма. Они узнают во всём, что
рождается от них, не испытывая при этом чувства ответственности, всю
несравненную силу некоторых книг, некоторых слов, волнующих их и поныне. Они
внезапно обнаруживают великое поэтическое единство, которое простирается от
пророчеств всех народов к "Озарениям" и к "Песням Мальдорора". Они
прочитывают между строк незавершённые исповеди тех, кто уже использовал их
систему.
В лучах их открытий "Пора в Аду" утрачивает свои загадки, Библия и иные
признания человека оказываются полумасками образов; однако мы только
накануне Дада. Мораль, открывающаяся им из этого исследования, — это блеф
гения. Они тогда возмущались этим трюкачеством, этим жульничеством,
предлагавшим литературные результаты некоего метода и тщательно скрывающим,
что этот метод — в пределах всеобщей доступности. Если первые
экспериментаторы сюрреализма, число которых было поначалу ограниченным,
позволяют себе деятельность, подобную Дада, то лишь потому, что им известно:
в один прекрасный день они раскроют карты и первыми испытают безмерное
очарование, исходящее из глубин разочарований".
Красота всей этой страницы Луи Арагона и её лирическая мудрость
позволяют также лучше понять от обратного всё, чем коварен оппортунизм, с
его хитростями; это похоже на поведение господина, принимающего важный вид,
будто бы он знает, с какой стороны взяться за дело. А также тех, кто берёт
отдельных людей, факты и вещи в качестве меры других людей, фактов и вещей.
Упрямая мелочность суждений, притворная вера в реальность и пичкание этой
реальностью в качестве пропитания духа, надеясь, что чем более низкой,
простой, презренной она будет, тем меньше в ней окажется опасностей;
индивидуалистическое ожесточение, примеряющее всё к себе, приспосабливающее
всё к своим интересам, извлекая из всего благоприятное мнение; умиленные
улыбки критиков или романистов, производящих сортировку в степях сна; то
есть всё, что допускает или доказывает упрощенческую потребность
самоограничения в сознании, — вот что укоротило человеческое существо и
растлило его дух. К тому же совсем не утешает столь долгое ожидание того,
чтобы идея сюрреальности, по выражению Луи Арагона, вышла на поверхность
сознания; и сегодня, когда проблема если и не разрешена, то по крайней мере
поставлена, и поставлена чётко, мы не сможем смириться с ленью, недостатком
благородства, страхом перед риском тех, кто отказывается от великолепных
возможностей блуждать, предпочитая три квадратных миллиметра застывшей
скуки. Они боятся оказаться без прикрытия посредственного разума, соломы
реализма, который даже не огнеупорен и чьи соломинки, скупо собранные в
течение веков печальной экономии, рискует разметать ветер; пасуя перед умом,
с тех пор как он отказался играть в утилитарность, сторонники здравого
смысла, сторонники порядка любой ценой, вынужденные наконец понять, к чему
принуждают их мифы, используют ничтожные ресурсы низкопробного романтизма. И
вот почему повсюду кричат о так называемой болезни века — эта прекрасно
позолоченная и упакованная лучше всякого фармацевтического препарата пилюля,
сделанная согласно формуле одного псевдоизобретателя по мотивам некоего
проспекта, опубликованного по недосмотру в "Нувель Ревю Франсэз", вот уже
два года продаётся оптом и в розницу газетным хроникёрам ежедневных газет,
изысканным критикам ежемесячных журналов.
Во всяком случае, странная позиция у комментатора, который видит зло в
бунте разума, называя этот бунт знаком слабости, будто бы доброе здравие,
сила состоят в том, чтобы верить, что всё к лучшему в этом лучшем из миров.
Людей закалки Руссо, Лютера всегда будет ничтожно мало, и против них
будут правы болваны, целыми веками добивавшиеся того, чтобы искоренить
навсегда отчаянную честность и дерзость духа. В том же ключе выступал против
Фрейда один официальный поэт, заявлявший о недавних открытиях психоанализа:
"Фрейд, конечно, удивительный человек, но своими шокирующими замечаниями он
вызывает неподобающие мысли у молодых девиц!..
Однако больше всего помогало
двусмысленности, как замечает Андре Бретон в "Манифесте сюрреализма", то,
что мы действительно живём ещё в царстве логики, а логические приёмы наших
дней не применимы больше ни к чему, кроме решения второстепенных проблем. И
Бретон добавляет: "Абсолютный рационализм, по-прежнему модный, позволяет
анализировать только факты, непосредственно происходящие из нашего опыта.
Логические цели, наоборот, ускользают от нас. Бесполезно добавлять, что сам
опыт узрел обозначенные для него пределы. Он крутится в клетке, из которой
извлечь его становится всё сложнее и сложнее. Он опирается и на сиюминутную
полезность, его охраняет здравый смысл. Под расцветкой цивилизации, под
предлогом прогресса он вытравил из духа всё, что может быть оценено —
справедливо или нет — как суеверия, химера; ему удалось предписать любые
виды поисков истины, которая не соответствует истине. Благодаря величайшей,
по-видимому, случайности недавно нам удалось вернуть некую часть
интеллектуального мира, и во многом самую важную его часть, притворяясь,
будто её больше не замечают. Необходимо выразить благодарность открытиям
Фрейда. Вместе с верой в эти открытия наконец начинает вырисовываться
определённое направление мнений, в пользу которых человек может успешно
продвигать свои исследования, и этому течению будет дозволено учитывать не
только общие реалии. Воображение, возможно, уже готово; оно вот-вот войдёт в
свои права. Если в глубинах нашего духа таятся странные силы, способные
увеличивать силы поверхности или победоносно бороться против них, мы
заинтересованы в том, чтобы принять их, сначала поймать их и затем подчинить
по необходимости контролю разума".
Какое ещё высказывание может лучше, чем эта страница из Андре Бретона,
обрисовать состояние вещей. Обращаясь к необыденному смыслу ценностей, автор
"Манифеста сюрреализма", таким образом, предписывает разуму его истинную
роль, которая является контролем. Разум — лишь помощник мышления, его
прерогативы не позволяют смотреть слишком широко, пробиваться к сущности, но
поскольку так просто увязнуть в мелочах, неравная борьба между мышлением и
разумом не прекращается. Однако не в этом ли уже заключена великолепная и
почти нечаянная победа духа и та новая свобода, тот прыжок воображения,
торжествующий над реальным, над относительным, разрушающий прутья её
разумной клетки, — и птица, послушная голосу ветра, уже удаляется от земли,
чтобы лететь всё выше и дальше.
Ответственность, чудесная ответственность поэтов. В полотняной стене
они прорезали окно, о котором мечтал Малларме. Одним ударом кулака они
продырявили горизонт и в чистом эфире только что нашли Остров. Мы трогаем
пальцами этот Остров. Мы можем уже окрестить его любым именем, какое нам
понравится. Этот Остров — наша чувствительная точка. Но те, кто боится риска
и, однако, рискует, не могут простить этим людям, похожим на них, но
сделавшим досягаемой для осязания эту чувствительную точку, эту корзинку с
сюрпризами, опасностями и страданиями. Вот уже два года проблема Духа и
Разума, поставленная сюрреализмом более чётко, чем когда бы то ни было, не
оставляет безразличным того, у кого есть склонность к интеллектуальным
вещам, — это стало свершившимся фактом. И даже те, кто слишком слаб, чтобы
принять предложение страшной свободы, и предпочитает по-прежнему обитать в
маленьком сыре традиции, не могут помешать себе определённо предпочитать те
современные произведения, которые призывают к освобождению. Несомненно,
открытая чистосердечность, продолжительные усилия не могут не вынуждать к
уважению, а верность духу обретает значительно большую ценность по сравнению
с непостоянством многих людей, которые, сначала решившись идти вперёд, не
проявили упорства на своём отважном пути и, поднявшись на некоторую высоту,
лишённую поставленных веками парапетов, начинали испытывать такой страх, что
не осмеливались продолжать рискованный путь. Отсюда уже упоминавшееся
подспудное возвращение к второстепенным вопросам, к проблемам формы. Они
пытаются ухватиться за побочные ветви, рисовать арабески, они забывают о
глубине во имя формы, не думают больше о "зачем", но о самом простом, о
самом лёгком — "как".
Кто же, впрочем, во время первых вспышек этого века мог предугадать,
ударам каких решительных вопросников будут подвергаться писатели романов,
блаженной памяти реалисты. Первым ударом были анкеты, проведённые на
следующий день после войны, в 1919 году, журналом "Литература", которая
осмелилась спросить у верховных жрецов: "Зачем вы пишете?"
Было чем изумить самых блестящих представителей писательской элиты.
Подкоп под их сонливость, война против их рутины, потрясение их откормленной
апатии. Ответы сами выдавали их, но они не осмеливались молчать, оробев от
хамства вновь прибывших, которые вовсе не боялись прибегать к столь прямым
приёмам; не изволив писать сами, они тестировали других и самих себя по
сущностным вопросам. Безумный бред дряхлых Ноев, которые не могли мирно
отстаивать свои чернила. Игла попала в самую точку, их пустые пуза лопнули,
и прозрачность их скуки продемонстрировала чудовищные кишки — чётки для их
тошнотворных мотивов.
Такой анкетой началась борьба духа против разума, за ней последовали
Дада, автоматическое письмо, сюрреализм. Внезапность атаки потрясла
оппортунизм спонтанно и почти до самых корней традиций. С первого же удара
было доказано, что поэзия есть революция, ибо она раскалывает цепи,
приковывающие личность к твердыне условности. Уже настало время, когда никто
не осмелится без смеха оправдываться с помощью доводов разума, и именно в
этом смысле надо интерпретировать слова профессора Курциуса, в недавней
статье о Луи Арагоне похвалившего автора за то, что тот "победил с помощью
настоящей поэзии красоту, понимая её лишь как предлог". Подобную хвалу
достойны разделить лучшие из сегодняшних творцов, которые не заботятся ни о
помощи формы, ни об элементарных соблазнах цвета. Глаз Пикассо, столь
острый, что протыкает комфортабельные облака, разрывает завесы слишком
сладостных туманов, освещая неумолимым светом чудеса, спрятанные за каждым
предметом, формой, цветом. Тогда поднимаются высокомерные призраки, не
прибегая ни к романтизму жеста, ни к драпировкам, ни к эффектам костюмов или
поз.
Мы последовали за ними до кулисы, где Макс Эрнст сообщил, что "над
облаками шагает полночь. Над полночью парит невидимая дневная птица, выше
птицы — эфир толкает стены и начинают плавать крыши". Размахивая крыльями
век, летают наши взгляды и ветер, в честь которого Пикассо из каждого
грустного камня порождал Арлекинов с их циклопическими сёстрами, и все
засыпали в тайнах гитар, в обманчивой неподвижности дерева, в буквах
газетных названий, в ветре, в честь которого Кирико строил неподвижные
города, а Макс Эрнст свои леса. Во имя каких воскрешений уносил этот ветер
наши руки — безрадостные цветы? Я видел картину Хуана Миро, на которой
красное сердце само билось на синем небе. Кудесник тончайших трепетаний,
Макс Эрнст предлагал нам голубок, и нашим пальцам сразу хотелось ощутить их
тепло, страхи, желания. Когда нас посещает тайна такого простого, такого
естественного творения, мы идём прямо к холсту, как если бы рама была
обыкновенной дверью. Подобные чудеса на улице, где всё, вплоть до дыма,
окаменело под сине-зелёной лавой, подарил нам Джорджио де Кирико. Призрачные
проспекты города, сокрытого в самом центре земли; небеса, не ведающие ни
жары, ни холода; тень аркад, труб внушала нам презрение к поверхностному, к
феноменам и делала нас более достойными абсолютного сна, где какой-нибудь
Кант смог испытать подъём духа от ноуменального головокружения.
Треснули крепостные стены, одинокая тень смерти рассекает тяжёлые
камни. "Лицо, протыкающее стены", — объясняет поэт Поль Элюар — и с нашей
ничтожной планеты мы удаляемся в страну без границ.
Тогда в открытом небе загораются птицы, дрожит земля и море сочиняет
новые песни. Пригрезившаяся лошадь галопирует по облакам. Флора и фауна
меняются на глазах. Занавес сна, упавший в тоску старого мира, вдруг
поднимается, открывая сюрпризы звёзд и песка. И мы смотрим на мягкие сердца,
разумные руки, наконец отмщённые за медлительность минут.
Непредсказуемый космос, какие океаны причалят к его берегам навигаторов
молчания? На этот вопрос Макс Эрнст ответил самым неожиданным названием
картины: "Революция ночь".
Революция ночь. Мы знаем, что, ведомый к предметам, послушный их
контурам, подчинённый, как ему настойчиво советовали, их обыденности, дух не
мог бы иметь собственной жизни и даже, по правде говоря, не мог бы
существовать. Тогда свободный человек, презирающий сознание и его иго,
стремится в ночи найти своё счастье, свою свободу. Андре Бретон не без
умысла сообщил нам в "Манифесте сюрреализма", что Сен-Поль-Ру написал на
дверях своей спальни, комнаты для грёз: "Поэт за работой". И эта работа не
имеет ничего общего с лепкой фестончиков, астрагалов и маленьких
разноцветных обманов, из-за чего Паскаль сравнивал так называемых поэтов
своего времени с вышивальщиками. Эре развлечений пришёл конец. Кто же теперь
будет довольствоваться пуантами, играми духа, от которого столькие принимают
помощь с единственной целью — лишь бы не попасть в центр спора. Тогда они
чувствуют себя как дома и радуются, чувствуя себя как дома в самом центре
бастиона рационально-позитивистского индивидуализма, где они скрылись со
своими старыми стадами. И пока они не погибнут, раздавленные строительным
мусором своей фальшивой культуры, они будут отрицать обгоняющие их
очевидности и попытаются выдать за саму свободу свою напускную
эксцентричность. Напуганные всем тем, что их обгоняет, как Буцефал - своей
тенью, поржав от удовлетворения, они верят, что победили тень и страх. Из
своих красных рыбок они сделают китов, но придёт справедливая расплата, и
они утонут в мелких ручейках. Привязанные к воспоминаниям, к фактам, они
никогда не познают той экзальтации, о которой Поль Валери говорил, что она
не что иное, как недоверие человека к предвидениям своего духа...
Поэт же, напротив, не льстит и не хитрит. Он не усыпляет диких зверей,
чтобы сыграть роль укротителя, но открывает все клетки, бросает ключи на
ветер и уходит. Он — странник, думающий не о себе, но о странствии, о пляжах
сна, о лесах рук, о животных души, обо всей неопровержимой сюрреальности. Он
презирает рокайль, игру в переодевания. Книгу своих снов он читает так, как
будто вновь постигает простейшие истины: он — дитя, пытающееся изучить
устройство мира, шаги времени, капризы элементов и чудеса трёх царств. Это,
в открытом небе, повествование, цвет которого убедительнее и опаснее, чем
легендарное пение сирен.
В иные времена люди радовались, сажая деревья, которые они называли
деревьями свободы. Поэзия, открывающая нам символы, взращивает саму свободу,
и её ствол возносится высоко, оставляя позади, далеко внизу, выражающие её
звуки, цвета, которые.
Но кто же тот техник, что когда-нибудь постигнет её механизм?
Макс Эрнст
От 5 до 7 лет
Я вижу перед собой грубо размалёванное
панно: на красном фоне, имитирующем акажу, большие чёрные пятна, вызывающие
ассоциации с органическими формами (грозный глаз, длинный нос, толстая
голова птицы с густой чёрной шевелюрой и т. д.).
Перед панно чёрный и лоснящийся мужчина делает некие жесты —
медлительные, комичные и, по моим воспоминаниям более поздней эпохи, весело
непристойные. Этот странный человек носит усы моего отца.
Сделав несколько отрывистых прыжков, точно "в замедленной съёмке", с
расставленными ногами, согнув колени, с зависшим торсом, он улыбается и
вынимает из кармана своих брюк толстый карандаш из какого-то мягкого
материала, который я не могу более точно определить. Он начинает работать;
тяжело дыша, он поспешно рисует чёрные линии на панно из фальшивого акажу.
Он моментально создаёт новые формы, поразительные и неприличные. Он так явно
выделяет их хищность и липучесть, что они отделяются от картины, вселяя в
меня ужас и тревогу. Довольный своим искусством, человек ловит и собирает
свои творения в подобие вазы, которую он рисует специально для этой цели в
пустом пространстве. Он заставляет переворачиваться содержимое вазы,
помешивая всё быстрее и быстрее толстым карандашом. Сама ваза в конце концов
начинает крутиться и становится юлой. Карандаш становится хлыстом. Теперь я
отчётливо вижу, что этот странный художник — мой отец. Он изо всех сил
манипулирует хлыстом и сопровождает свои движения ужасными вздохами,
сравнимыми с отрыжкой огромной разъярившейся паровой машины. С невероятными
усилиями он заставляет крутиться и скакать вокруг моей кровати эту
отвратительную юлу, которая вобрала в себя все ужасы, которые мой отец
изволил пробуждать на этом панно из фальшивого акажу с помощью своего
кошмарного мягкого карандаша.
По достижении зрелости я очень серьёзно изучал вопрос, как вёл себя
отец в ночь моего зачатия. Как ответ на этот вопрос сыновьего уважения
возникло во мне очень точное воспоминание этого видения полусна, которое я
совершенно забыл. С тех пор я не могу отделаться от отчётливо дурного
впечатления о поведении отца в момент моего зачатия.
Возмужав
Хорошо известная игра чисто оптических
представлений становится кортежем нормально одетых мужчин и женщин, который
уходит от далёкого горизонта в сторону моей кровати. Прежде чем прийти,
гуляющие расстаются: женщины отходят вправо, мужчины — влево. Я с
любопытством наклоняюсь направо, так, чтобы ни одно лицо не ускользнуло от
меня. Сначала я был поражён юностью всех этих женщин; но, изучив их
внимательно, лицо за лицом, я вижу свою ошибку: это были женщины, из которых
многие средних лет, несколько старых и только две или три очень молоденькие,
лет восемнадцати, — возраст, подходящий для моей возмужалости.
Я слишком долго рассматривал женщин, чтобы обращать внимание на то, что
происходит с левой стороны. Но я знаю, хотя никогда этого не видел,
что с той стороны я бы впал в новое заблуждение: те господа напугали меня
вначале своей преждевременной старостью и явным уродством, но при более
внимательном изучении только у моего отца я обнаруживал действительно
старческие черты.
В январе 1926
Я вижу себя в своей кровати, и у моих ног какая-то высокая и тонкая женщина, одетая в очень красное платье. Платье прозрачно, и женщина тоже. Я поражён удивительным изяществом её скелета. Мне очень хочется сделать ей комплимент.
Крылатый дым искушает птичку, запертую на ключ.
Устрица из Сенегала скушает трёхцветный флаг.
Забастовка звёзд без сахара накажет весь дом.
Угасшая любовь принарядит народы.
Раненые женщины пачкают гильотину со светлыми волосами.
Голубка на ветке заражает ламартиновский камень.
Обезглавленные звёзды, взбешённые, что их больше не существует, носятся по окружности, в центре которой свёрнутая, а потом развёрнутая программа кино.
Кудрявый гиппогриф преследует чёрную лань.
Двенадцатый век, красивый, как сердечко, приводит к угольщику улитку мозга, которая уважительно приподнимает шляпу.
Накрашенный рак освещает едва различимые двойные поцелуи.
Анемичная девочка заставляет краснеть восковые манекены.